3 Пролог
Конец века — всегда повод мысленно вернуться в его начало. Не составил исключения в этом «духовном паломничестве» и конец века двадцатого. В апокалиптических пророчествах философов и поэтов прошлого рубежа веков вычитывались рифмы к рубежу нынешнему, в политических утопиях, казалось бы, давно показавших свою несостоятельность, предугадывались пути «светлого будущего», в театральных идеях великих мастеров того времени обнаруживались новые (хорошо забытые старые) способы вернуть зрителя в театральные залы.
Начало XX века породило огромное количество политических, общественных и прочих мифов. Его исход — еще большее число мифов об этих мифах.
«Культура — эманация памяти», «культура — культ предков», «она есть память не только о земном внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях», «искусство есть со-общение»1. Это одна из ключевых идей философа и поэта, филолога и историка, театрального теоретика, «властителя дум» начала XX века Вячеслава Иванова. Тем не менее, его главный призыв: «Утолить палящую жажду у озера подземной Мнемосины»2 оказался менее популярным у современников и менее любим потомками, нежели другой, принимаемый иногда слишком буквально: «Кто не хочет петь хоровую песнь, пусть удалится из круга, закрыв лицо руками. Он может умереть; но жить отъединенным не сможет»3.
Иногда Иванова считают теоретиком «новых форм коллективного сознания», игнорируя его четкое разграничение понятий «легион» и «соборность», подгоняя удобные фразы в свои готовые формулы.
Менее всего к Вячеславу Иванову применимы однозначные ярлыки-определения. Кто он? Философствующий поэт, продолжатель традиции русской философской лирики, наследник Ломоносова и Державина или же философ, стихотворения которого — поэтический комментарий к эстетической теории?
Первые статьи были написаны им в 1904 – 1905 годах: «Поэт и чернь», «Ницше и Дионис», «Новые маски», «Копье Афины», «Вагнер и Дионисово действо», «Символика эстетических начал», «О Шиллере», «Кризис индивидуализма». В 1904 году в журнале Д. Мережковского «Новый путь» и в 1905 году в журнале Н. Бердяева «Вопросы жизни» выходит историческое исследование «Эллинская религия страдающего бога». В 1903 году вышел первый поэтический сборник «Кормчие звезды», в 1904-м — второй — «Прозрачность». В том же 1904 году закончена 4 трагедия «Тантал». Теория театра, теория символизма, идеи индивидуального и соборного начал в искусстве и истории ярко и образно декларируются Ивановым в стихотворении, статье, трагедии.
Театральная теория поэта является частью его эстетической теории, его философии искусства. Идея «соборного театра» — попытка религиозно-философского осмысления феномена искусства на определенном витке исторического развития.
Основные идеи философии искусства Вячеслава Иванова — ключ для анализа его театральной теории и драматургии. В центре этой философии — теория «реалистического» символизма. Поэт разделяет символизм на «идеалистический», ассоциативный, выражающий психологическое состояние художника, и «реалистический», который снимает присутствующее до исполнения времен разделение «неба» и «земли», осуществляя активное проявление небесного бытия в материальной форме. Концепция «соборного театра» как искусства «реалистического» символизма, как ЭЙКОН (икона, образ, притча) «Реальнейшего» занимает важное место в системе его религиозно-философских взглядов.
Большое влияние на поэта оказали размышления Ницше о дионисийском, экстатическом начале трагедии. Значение исследований Вячеслава Иванова — в философском осмыслении истоков театрального искусства, связанном с его учением о личности и соборности.
Иванов утверждает онтологическую ценность личности, подчеркивая при этом опасность утраты личностного бытия, переход его в Небытие в результате крайне углубленной индивидуации личности. Это тот почти непреодолимый в современном искусстве барьер между «поэтом» и «чернью», выводящий театральное искусство — соборное по свой сути, за пределы его сакрального и сакраментального значения.
Среди множества мифов, сопровождающих жизнь и творчество Вячеслава Иванова, один является наиболее популярным. Это миф, который приписывает поэту стремление поставить Диониса и его культ на место Христа и христианской церкви, а дионисийское действо, из которого возникло театральное искусство, на место литургического богослужения.
Если же внимательно обратиться к тексту Иванова, то можно убедиться в том, что этот миф является несостоятельным. Известно и популярное замечание Андрея Белого по поводу практического претворения в жизнь теории «дионисийского действия» о том, что он предпочтет кружиться в вальсе с хорошенькой барышней, чем водить хоровод вокруг 5 трагического козла с действительным тайным советником. Показательна также статья А. Белого «Символизм и современное русское искусство», на которую Вяч. Иванов ответил в статье «Две стихии в современном символизме. Экскурс И: Эстетика и исповедание»: «Назвав Диониса как некое “во-имя”, начертанное на моем знамени, мой критик обвиняет меня в уклончивости, недоумевая: “Кто Дионис? — Христос? Магомет? или сам Сатана? Но ужели должно еще повторять, что, по моему воззрению, Дионис для эллинов ипостась Сына, поскольку он — "бог страдающий"”? Для нас же, как символ известной сферы внутренних состояний, Дионис, прежде всего — правое как, а не некоторое что или некоторый кто — тот круг внутреннего опыта, где равно встречаются равно верующие и разно учительствующие из тех, которые пророчествовали о Мировой Душе <…> И опять-таки, поскольку я эстетик, я вправе оперировать с религиозно-психологическим феноменом дионисийства, не имея методологического права придавать этому феномену определенное религиозно-догматическое истолкование»4.
Дионис для поэта не «живой бог» (кстати, он никогда не писал по отношению к Дионису слово «бог» с большой буквы), а путь преодоления индивидуализма, способ рождения личного опыта, являющегося сверхличным по значению, но главное «метод внутреннего опыта».
Иванов подчеркивает, что в первопамяти культуры не остается неучтенным ни один творческий порыв. «Дионисизм» для него еще и своего рода метафора свободы творчества. Свою философию творчества он называет символической, раскрывающей во всех явлениях связь всего сущего и «знаменья иной действительности».
Выявление красоты смысла самих вещей — «художническая теургия». В статье «О границах искусства» поэт вслед за Владимиром Соловьевым утверждает, что существует «три ипостаси человеческого подвига: подвиг резца, подвиг меча и подвиг креста <…> или: духовная культура, государство и церковь». «Но в нашу задачу входит рассмотрение лишь первого подвига и обследование “заповедного предела”, который отмечает теургическую межу художества»5.
Драматургия Вячеслава Иванова — попытка создания новой символистской драмы. Это сложный театральный и философский текст, требующий комментария, который невозможно составить без анализа и вне контекста всего его творчества.
О Вячеславе Иванове — «духовном вожде» русского символизма написано и много, и мало. Много литературы мемуарного характера. О нем писали: Г. Адамович, Е. Аничков, Н. Асеев, А. Ахматова, А. Белый, Н. Бердяев, А. Блок, В. Брюсов, о. С. Булгаков, М. Волошин, Л. Галич, 6 Е. Герцык, С. Городецкий, Н. Гумилев, М. Добужинский, Б. Зайцев, Ф. Зелинский, А. Измайлов, В. Ильин, А. Кугель, М. Кузмин, Н. Лосский, С. Маковский, О. и Н. Мандельштам, В. Мануйлов, В. Мейерхольд, Д. Мережковский, О. Мочалова, П. Муратов, В. Пяст, М. Сабашникова, Вл. Соловьев, Ф. Степун, о. П. Флоренский, о. Г. Флоровский, С. Франк, Г. Чулков, Л. Шестов, Эллис, К. Эрберг.
К этому ряду имен хочется прибавить и отдельно выделить мемуарный очерк Дмитрия Вячеславовича Иванова «Из воспоминаний», книгу Лидии Вячеславовны Ивановой (Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992), вступительную статью О. Дешарт к собранию сочинений Вяч. Иванова, книгу М. Альтмана «Разговоры с Вячеславом Ивановым», освещающую бакинский период жизни поэта.
Здесь перечислены авторы лишь наиболее интересных и неоднозначных высказываний об Иванове. Частично переизданные, частично опубликованные на Западе, они складываются в объемный и многоцветный портрет.
Исследуя эти весьма субъективные источники, обращаешь внимание на их внутреннюю противоречивость, на сознательное соединение несоединимого, на бессознательную попытку создания портрета почти мифологического героя-«жреца», «верховного мистагога» «башни» в петербургский, наиболее плодотворный творческий период, «мудреца с Тарпейской скалы» (выражение З. Гиппиус), ведущего почти отшельнический образ жизни в последний период — в Риме.
Во Введении к собранию сочинений Иванова описание его детства, а также последних лет жизни приобретает почти агиографический, «житийный» характер. Начинается оно с описания гадания матери Вячеслава о судьбе ребенка по Псалтири. «Вышли слова: “Я был младшим в доме отца моего, мои пальцы настроили Псалтирь”. “Так оно есть. Так буди! — сказала мать, обрадованная, — станешь поэтом”»6.
Образ поэта — псалмопевца, поэта-славослова, неустанно твердящего «да» этому миру, проводится через все его жизнеописание: «Не даром само имя его — Вячеслав — значит славословие. Поэту, как Адаму в Раю, поручается наименовать “всякую душу живую”: “И ликам реющим их имя нареки” <…> Вячеслав Иванов не боится наименовывать; напротив, он спрашивает себя при виде каждой былинки, не забыл ли он воспеть и ее, создал ли он Богу славу и за это творенье»7.
Введение имеет замкнутую, кольцевую композицию, в конце его — рассказ о последней работе поэта. По заказу Ватикана «восьмидесятидвухлетний старец» пишет вступление и примечание к Псалтири. «Работу эту он закончил за несколько дней до смерти… Давно то было: о 7 судьбе своего пятилетнего Вячеслава под Новый Год мать гадала по Псалтири»8.
А вот эпитеты, которыми награждают его современники: «Царь самодержавный» (А. Блок), «Фауст нашего времени» и «Сирин ученого варварства» (А. Белый), «Вячеслав Великолепный» (Л. Шестов), «Поэт-иерофант, ведающий тайны» (М. Волошин), «Зачинатель нового театра» (В. Мейерхольд), «Виртуоз в овладении душами» (Н. Бердяев)… и т. д.
Рядом с восторженными встречаются и ироничные реплики. Например, «прекрасная модель» (Л. Галич), т. е. модель, экспонат, копия, которая хороша под музейным стеклом, но летать, как грязные непривлекательные подлинники, не может. Мысль, конечно, не бесспорная. Хотя, наверное, не стоит творить новых мифов и забывать о том, что Вячеслав Иванов был все-таки иным «властителем дум», чем, например, И. Северянин, и пользовался популярностью отнюдь не у массового читателя. Об этом с большой долей иронии пишет Л. Галич в рецензии на книгу «По звездам» (отражая, очевидно, психологию этого рядового читателя): «Автор этой замечательной книги нельзя сказать, чтобы не пользовался известностью. Имя у него прямо громкое. Нет такого гимназиста в России, в котором оно не будило бы самых веселых и приятных воспоминаний. Все знают, что это тот самый поэт, который вместо “аромат” говорит “вонь”, вместо “берут” — “емлют” и на которого поэтому так легко и удобно писать пародии. По пародиям его, собственно говоря, и узнали в так называемой большой публике. Подлинные же стихи и статьи этого поборника “всенародного искусства” читает, разумеется, не народ, а много-много человек двести. До всенародности ух как далеко»9.
Одним из творцов «мифического» облика поэта является Н. А. Бердяев — постоянный посетитель знаменитых «ивановских сред», которого долгие годы связывала с Ивановым тесная дружба. Бердяев оказался невнимательным и субъективным интерпретатором идей Иванова, в частности им достаточно односторонне были истолкованы такие ключевые понятия поэта, как «дионисизм», «дионисийский экстаз», «соборность».
Бердяев — автор самого резкого высказывания об Иванове: «Он был всем: консерватором и анархистом, националистом и коммунистом, он стал фашистом в Италии, был православным и католиком, оккультистом и защитником религиозной ортодоксии, мистиком и позитивным ученым»10. Эти обвинения опровергнуть совсем нетрудно. Так же, как и пресловутое утверждение о том, что, будучи профессором классической филологии в Бакинском университете, он был и заместителем наркома Азербайджана.
8 Бакинский период жизни Иванова подробно освещен в статье Н. В. Котрелева «Вячеслав Иванов — профессор Бакинского университета»11, и в статье его ученика В. Мануйлова.
Воспоминания о В. И. Иванове имеют не только личное значение. Вокруг его имени возникают стойкие легенды, настолько искажающие его облик, настолько не соответствующие реальному прошлому, что наш долг сделать все, чтобы восстановить и сохранить для будущего истинные сведения об этом удивительном человеке. Так, в четвертом томе «Литературной энциклопедии» (1930) в статье об Иванове, написанной В. Михайловским, сказано: «С 1921 — в Баку, где был профессором, некоторое время ректором университета и замнаркомпроса Азербайджанской ССР… Эти же сведения повторяются в статье Л. П. Печко в Краткой литературной энциклопедии… На самом деле… он был профессором кафедры классической филологии с конца 1920 по май 1924 года. Наркомом просвещения Азербайджанской ССР в эти годы был старый коммунист, талантливый азербайджанец Буниат-Задэ, а его заместителем — известный лингвист, профессор В. Б. Томашевский, впоследствии ректор Ленинградского университета. Ни заместителем наркома просвещения, ни ректором В. И. Иванов не был, хотя мог быть избран в качестве ректора, когда эта должность замещалась по выборам в ученом совете университета. Вячеслав Иванович всегда очень смело и независимо высказывал свои идеалистические и религиозные убеждения и, конечно, при всем уважении и бережном отношении к нему, его не могли бы назначить на высокий пост в народном комиссариате просвещения или выбрать ректором только что образованного университета. Фантастические утверждения о высоких административных постах, занимаемых В. И. Ивановым в Баку, так же неосновательны, как и легенда о том, что по переезде в Италию он будто бы стал префектом Ватиканской библиотеки и кардиналом»12.
Вячеслав Иванов не был коммунистом и потому не мог быть ректором Бакинского университета, он не был фашистом и, сохраняя до конца 30-х годов советский паспорт, не мог занимать высокие посты в зарубежных университетах. Во вступительной статье к собранию стихотворений Иванова, вышедшему в серии «Библиотека поэта», С. С. Аверинцев пишет: «Так, в 1934 году фашистские инстанции отменили избрание Вячеслава Иванова профессором Флорентийского университета (по той же причине — из-за советского гражданства — поэт не смог принять профессуру в Каирском университете, находившемся тогда под властью британских колониальных чиновников). Горький писал П. С. Когану в 1929 году из Сорренто: “В. И. особенно следовало бы поддержать 9 здесь, он ведь в исключительной позиции: русский, советский профессор, с красным паспортом, читает итальянским профессорам лекции по литературе. Анекдот "исторический"”»13.
Иванов не был также и националистом в узком, примитивном смысле этого слова. Вячеслав Иванов не был и «нетеатральным» человеком, хотя не написал ни одной театральной рецензии. Еще одна легенда, повторяемая многими мемуаристами, гласит, что поэт никогда не был в театре.
Легенда несостоятельна уже потому, что поэт, находясь в тесной творческой дружбе с Всеволодом Мейерхольдом, вряд ли не посещал его знаменитые спектакли. В своей книге Лидия Вячеславовна Иванова пишет: «Мейерхольд ставил тогда Вагнера в Мариинском театре… Помню, как Мейерхольд говорил за столом о своей работе при постановке “Тристана”. Он жаловался на обычную жестикуляцию певцов и уморительно передразнивал их… Мейерхольд пригласил нас всех — старых и малых — на генеральную репетицию»14.
Генеральная репетиция «Тристана и Изольды» Вагнера состоялась 28 октября 1909 года.
Еще одно свидетельство Л. Ивановой. Вячеслав Иванов с семьей, получив разрешение на выезд за границу, едет в Италию через Ригу и Берлин. «При въезде в Берлин читаем объявление: в опере дают Мейстерзингеров, если поспешим, успеем. Отправляемся чуть ли не с вокзала в театр, погружаемся в вагнеровский океан, вокруг на галерее благоговейная публика, некоторые дамы взяли с собой работу и вяжут…» «Комментарий Джона Мальмстада: “Судя по репертуару берлинских театров, помещаемому в газете "Berliner Tageblatt", Ивановы приехали в немецкую столицу 31 августа 1924 г. В это воскресенье, в 6 1/2 вечера, в штате опере состоялось представление "Die Meistersinger Von Nurnberg" Рихарда Вагнера”»15.
Что же касается отсутствия в его творческом наследии театральных рецензий или хотя бы дневниковых заметок о конкретных современных театральных спектаклях, то можно заметить, что поэта никогда не интересовала фиксация конкретного факта. Он пишет о том, что этот факт собой символизирует. Даже о спектакле, состоявшемся на «башне» — «Поклонение кресту», Иванов написал не статью, не заметку, а стихотворение.
Историческое и филологическое исследование античной культуры интересует Иванова не меньше, чем ее современная интерпретация. Поэзия для него — один из высших способов познания.
10 Вячеслав Иванов — поэт «платонической» природы. Система его религиозно-философских воззрений основана на мифопоэтической символике Платона и на платоновском утверждении символизма материального мира — «тени идей», отражения Единого — первичного вечного Сущего во множестве объектов, Его зеркальных образах.
1 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1974 – 1987. Т. 3. С. 431, 412, 395, 681.
2 Там же. Т. 3. С. 93.
3 Там же. Т. 1. С. 838.
4 Там же. Т. 2. С. 570 – 571.
5 Там же. С. 648.
6 Там же. Т. 1. С. 7.
7 Там же. С. 45.
8 Там же. С. 227.
9 Галич Л. «Прекрасная модель» // Новый день. 7.08.1909.
10 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 138.
11 См. Котрелев Н. В. Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета // Труды по русской и славянской филологии. XI. Уч. зап. ТГУ. Вып. 209. Тарту, 1968. С. 326 – 339.
12 Иванова Л. В. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 342 – 343.
13 Иванов В. И. Стихотворения. М., 1976. С. 55.
14 Иванова Л. В. Воспоминания: Книга об отце. С. 39 – 40.
15 Там же. С. 129.
11 Глава 1.
ФИЛОСОФИЯ ПОЭТА
|
В глубине глубин, нам не досягаемой, все мы — одна система вселенского кровообращения, питающая единое всечеловеческое сердце. Вяч. Иванов |
Вячеслав Иванов родился в середине XIX века (1865 год), умер в середине XX (1949). Поэт — свидетель двух цареубийств, двух мировых войн, великого падения великой страны, гибели блистательной эпохи Серебряного века и ее мифов, творцом которых был и он сам. Его мать — романтическая славянофилка — дружила с сестрой В. Белинского, которая много рассказывала о своем брате. В конце жизни Иванов переписывался и встречался с выдающимися философами уже нашего времени — французским неотомистом Жаком Маритеном и экзистенциалистом Габриэлем Марселем.
«С эллинами эллин», «скворешниц вольный гражданин», Иванов писал и говорил на 4-5 европейских и нескольких древних языках, свободно чувствовал себя в любых странах и эпохах. Но его уникальная личность весьма характерна для конкретного времени и конкретной страны.
Конец XIX века — время, полное противоречий. С одной стороны, торжество «сократической», утилитарной культуры, устанавливающей культ «насущного с полезным», вызывало реакцию протеста — от полуромантического бунта французских декадентов до вполне евангельского по духу «бунта» русских религиозных философов против исторической церкви, позабывшей о духовном деланье Марии.
С другой стороны, переворот, произведенный в конце XVIII века теорией познания Канта (равный по мощности взрыва перевороту, вызванному открытием Коперника), приобретает в конце XIX века в лице неокантианцев новых проповедников и последователей.
«Где я? где я?
По себе я
Возалкал.
Я — на дне своих зеркал.
(“Прозрачность”)
Этот стих, который не был бы понят в прежние времена никем, кроме людей исключительной и внутрь устремленной созерцательности, выражает едва ли не общеиспытанный психологический факт в ту эпоху, когда наука не знает более, что такое Я, как постоянная величина в потоке сознания»16.
12 К «вечным вопросам» — «Кто виноват?» и «Что делать?», волновавшим человека XIX века, Иванов прибавил свой вопрос: «Где я?» — восклицание поэта, повторяемое во многих его произведениях.
Куда ученая потянется ватага?
Ужели на Парнас?.. Затем, что знанья нет!17
Так писал он в начале 900-х годов в полушутливом стихотворном обращении «La Faillité de la Science» к философу В. Н. Ивановскому — скептику и агностику, спасавшемуся от падения в эту бездну с помощью поэзии.
Сам Вячеслав ощутил спасительную силу поэзии еще в юности, когда он — типичный юноша-«восьмидесятник», метался между Сциллой и Харибдой «гордого индивидуализма» и «чистого афеизма», приведшего его к попытке самоубийства. Но, как отмечает потом Иванов в своем «Автобиографическом письме», «примечательно, что моя любовь ко Христу и мечты о нем не угасали, а даже разгорелись в пору моего безбожия. Он был и главным героем моих первых поэм (“Иисус” — искушаемый в пустыне, “Легенда” — о еврейском мальчике в испанском готическом соборе). Страсть к Достоевскому питала это мистическое влечение, которое я искал примирить с философским отрицанием религии. Благотворным было для меня в эти годы сближение с одним товарищем-поэтом, по имени Калабин, который чистым ясновидением угадал во мне таящегося от мира поэта»18.
От появления своих первых стихов в «Русском вестнике» Вячеслав Иванов отказался, так как журнал считался в то время «органом реакции». По этой же причине (уступка реакции) он не стал стипендиатом лейпцигского классического семинария.
В 1884 – 1886 годах поэт учился на историко-филологическом факультете Московского университета, затем в Германии у знаменитого историка античности Т. Моммзена. Защитив на латыни диссертацию о системе государственных откупов в Древнем Риме, он путешествовал по Италии, Греции, Палестине, Египту, собирая материалы об истоках религии Диониса — теме, занимавшей его на протяжении всей жизни. Интересы Иванова все больше сосредотачивались в области античной философии как своего рода универсальном методе для изучения морфологии культуры. К этому времени он уже открыл для себя Ницше, Шопенгауэра, Гете, Р. Вагнера, немецких мистиков, а также Хомякова и Владимира Соловьева.
Свои статьи разных лет он объединил в три сборника — «По звездам» (опыты философские, эстетические и критические. Изд-во «Оры», 13 СПб., 1909), «Борозды и межи» (опыты эстетические и критические. Изд-во Мусагет, М., 1916), «Родное и вселенское» (статьи. Кн-во Г. А. Лемана и С. И. Сахарова. М., 1917). Примечательно, что только в одном сборнике автор подчеркивает его «философское» содержание. Тем не менее «философскими опытами» можно назвать едва ли не все его произведения.
Иванов ищет древней мудрости у египетских мистов, орфиков, древнеиндийских мудрецов, греческих философов. Первыми собеседниками у него становятся Анаксимандр, Гераклит, Платон, Аристотель, Порфирий, Ямвлих, Прокл. Следует отметить, что философам рубежа XIX – XX веков были близки орфики и неоплатоники, которых также занимала проблема «нового религиозного сознания».
«Во глубине, в сущности сущностей, есть Зевс абсолютный, извечный Отец единородного Сына»19. Это цитата из статьи Вяч. Иванова «О действии и действе». Статья является вступительным очерком, авторским комментарием к изданию трагедии «Прометей» в петербургском издательстве «Алконост» в 1919 году и представляет собой законченный философский этюд с включением в него поэтических автоцитат в качестве доказательств своих размышлений из поэтического сборника «Кормчие звезды» раннего периода.
Иванов разделяет Бытие Реальнейшее — абсолютное, предвечное, ноуменальное и бытие реальное — тварное, временное, феноменальное. При этом он не отрицает ценности материального мира, этого отражения первичного Реальнейшего Сущего во множестве его зеркальных образов (в отличие, например от Платона, с которым у него так много общего). Иванова не интересует оправдание этого мира, для него мир уже оправдан актом Божественного воплощения, в Его Сыне.
Отсюда славословие Иванова-поэта. Поэта, всегда говорящего миру «Да!». На эту поэтическую особенность указал С. С. Аверинцев в предисловии к сборнику эстетических работ Иванова. «Было бы странно вопреки очевидности утверждать, будто христианский путь Вячеслава Иванова прост, прям и непротиворечив; с поэтами, с людьми искусства, несущими на себе помимо личных страстей еще и страсти своего времени, такое очень редко бывает — даже тогда, когда их эпоха не до такой степени заряжена амбивалентностями, как “серебряный век” <…> Что до всего этой вере противоречащего, до “ереси темной волхвов” и рабствования “плоти греховной”, отметим в противовес, по крайней мере, один момент религиозной дисциплины чувства, который оставался константой во всех блужданиях Вячеслава Иванова, вопреки всему. Это редкостное для двух последних столетий европейской и 14 русской культуры отсутствие хулы на творение и Творца, на принцип бытия»20.
«Учение о Красоте» Вячеслава Иванова является христиански переосмысленным платонизмом. У Платона образы тварного мира — «тени идей» предвечно существуют в Едином как идеальные первообразы. Поэт утверждает красоту не только всех «реалий», заключенных в Реальнейшее Бытие, но и «красоту становления», которое может быть и неправым. Даже такое становление парадоксальным образом содержится в замысле Божием и неведомыми путями (через крест и жертву) возвращает к своему Первобытию.
Иванова занимают проблемы взаимоотношений Реальнейшего и Его реалий, диалог небесного и земного. Эти проблемы решаются в его главных темах: восхождение и нисхождение, жрец и жертва, человеческая свобода и человеческое грехопадение как неправый ответ в данном диалоге.
Человек — «Творец икон и сам Икона»21. Созданный свободным, он несет на себе груз свободного самоопределения и право на богоборчество, которое может быть правым — богоборчество Иова и неправым — от богоборчества библейского Адама до богоборчества мифологических Тантала и Прометея. Свою трагедию «Прометей» поэт называет трагедией «титанического начала, как первородного греха человеческой свободы»22.
О том, что Вячеслава Иванова всегда волновала проблема человеческой свободы, свидетельствуют воспоминания Лидии Ивановой. Лидию, верующую девочку, смутили в гимназии вопросом: «Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который Он Сам не сумел бы поднять?» Смущенная Лидия пошла за ответом к Вячеславу: «Выслушав внимательно вопрос гимназистки, он сразу дал ответ — Бог не только может, он уже создал такой камень. Это есть человек с его свободной волей»23.
Трагедия неправого ответа человека Богу является центральной темой философского и художественного творчества Иванова. Особое место в его поэтическом творчестве занимает мелопея «Человек». В переписке с Э. Метнером поэт говорит о «Человеке» как о наиболее «целостно выражающей мое мистическое миросозерцание поэме»24.
30 марта 1916 года, когда еще не была написана заключительная основная часть поэмы, Вячеслав Иванов выступил с докладом в Московском религиозно-философском обществе. Доклад назывался «Человек. Размышления о существе и назначении, отпадении и божественном воссыновлении человека».
15 Тезисы доклада в Религиозно-философском обществе — краткий конспект основных идей поэта.
«I. “Аз есмь”.
Человек как микрокосм. — Отрыв от Природы. — Уединенное сознание человека. Сознание во Христе.
Денница (Люцифер). — Миф о Деннице. — Узурпация божественного “Аз есмь”. — Денница и Адам.
II. “Ты еси”.
“Ты еси” как начало: 1 — любви, 2 — Религии, 3 — соборности.
III. “Два града”.
1. Предстоящее завершение Града земного.
2. Генесис и строение града Божия на земле»25.
По окончании доклада — беседа с участием Ю. К. Балтрушайтиса, С. Н. Булгакова, Б. П. Вышеславцева, С. Н. Дурылина, Г. А. Рачинского, Л. В. Успенского и В. Ф. Эрна.
План доклада дает четкое представление не только о плане поэмы, в нем излагается план одной из самых важных частей философской системы Вячеслава Иванова — его антроподицеи или учения о человеке. В поэме оно изложено наиболее последовательно и открыто, но в скрытом или фрагментарном виде эти идеи присутствуют едва ли ни во всех произведениях поэта.
Первая часть поэмы «Человек» называется «Аз есмь». Согласно библейской книге Исход, «Аз есмь» означает «Имя Божие». В этом даровании человеку Божественного Имени, Божественной святости смысл первого диалога Бога и человека. Небесное, божественное Бытие дается тварному бытию в лице человека.
В примечаниях к поэме Иванов пишет: «Тварное “Аз” не содержит в себе всей полноты бытия, подобно “Аз” божественному, мнимая полнота тварного духа, отражая в своей среде тожественное суждение Единого Сущего, искажает его в суждение аналитическое: бытие есть признак и изъявление моего “аз”; нет другого бытия, кроме во мне содержимого и из меня истекающего»26. При таком отрицании «Аз» превращается в призрачное оформление «Ничто». Суть «люциферического бунта и человеческого грехопадения: “Я есмь весь в себе и для себя и от всего отдельно”».
Иванов полемизирует с философией Канта и неокантианцами. Субъективация — это борьба «я» за индивидуальное бытие с Бытием. Грех индивидуации ведет к утрате личности (Где я?). К этой важной теме поэт возвращается в беседах с М. Альтманом: «И каждый раз, когда я говорю “я”, я совершаю великий грех. “Я” — царская печать, Его 16 перстень, которым я, не имея на то права, запечатываю свои письма. Его подписью я выдаю фальшивый вексель. Только в подобии Отцу я — я, во всех остальных случаях это подделка»27.
Грехопадение человека привело к хаотическому нестроению всего мира. Иванов пишет о «люциферическом» начале не только в человеке, но и в цивилизации, культуре, судьбах отдельных народов. Своего рода комментарием к поэме «Человек» (или наоборот, поэму можно рассматривать как философский комментарий) является статья «Лик и личины России», статьи и книги о Достоевском, трагедия «Прометей».
И роздых волн, безличье, безмятежность,
Усталость белая и белая безбрежность.
В тумане чайки крик, в жемчужной зыби — грусть,
Вселенской маске Я прощающее Пуст
В личине Я-не-я (и я ему уликой!)
Двойник Я Сущего и призрак бледноликий,
Бог мертвый в гробе я до третьего утра,
Покой пролитых слез, Крест Зла и Крест Добра.
(Стихотворение
«Тишина», сборник «Кормчие звезды»)28.
Только богочеловек способен осуществить полное преображение этого мира. Его диалог с миром абсолютен. Действие человека по преображению этого мира (теургия) подобно богочеловеческому, но оно лишь относительно, до конца осуществить преображение бытия в Бытие оно не может.
Человек — ЭЙКОН — призван к святости, но не осуществляет эту святость. С учением о человеке у Вячеслава Иванова связана теория истинного — реалистического, «теургического» символизма (в русле которого находится и его идея «соборного театра»).
Перевод богообщения на тварный язык есть символ. Такую теорию символа мы можем найти также у А. Ф. Лосева и у о. П. Флоренского. Среди поэтов-символистов теории Иванова близка теория символа А. Белого, отчасти Д. Мережковского, и, конечно, философия Владимира Соловьева. Главная идея, которая их объединяет, — выявление коммуникативной, диалогической сущности символа, которая является целью творения.
Иванов пишет о символизме постоянно, начиная с ранних работ («Поэт и чернь» 1904 г.) и кончая статьей «Символизм» для итальянского Энциклопедического словаря (1936). В статье «Мысли о символизме. Экскурс: о секте и догмате». (1912), указывая на основу онтологического иконического понимания символа, он ссылается на церковный догмат: «Когда отцы первого вселенского собора провозгласили “единосущие”, 17 то приятие именно этого догмата и безусловное отвержение противоположного (о “подобосущии”) стало непременным признаком православного сознания и решительным отличием от сознания еретического <…>.
Думаю, что, славя символизм, возглашаю догмат православия искусства. И, выражаясь так, надеюсь, что не буду обвинен в неуважении к источнику, откуда почерпаю свое уподобление, ибо искусство есть поистине святыня и соборность»29.
Призыв Августина Блаженного «a realibus ad realiora» («от реального к реальнейшему») является ведущим принципом эстетики Вячеслава Иванова.
В 1910 году, когда был провозглашен «конец символизма», поэт выступил со статьей «Заветы символизма». Два года спустя выходит статья «Мысли о символизме». Иванову показалось необходимым еще раз четко определить, что речь идет вовсе не о литературном направлении, а именно об эстетической теории, части философской системы. В связи с этим отметим несколько важных моментов в его теории.
В этой же статье содержится открытый выпад против тех, кто принимает теории поэта как руководство к действию. (В частности против Д. Мережковского с его неорелигией, объединяющей христианство и язычество).
«Свойственно символизму желание выйти за свои собственные пределы. Образ и подобие высших реальностей, отпечатленные в символе, составляют его живую душу и движущую энергию; символ — не мертвый слепок или идол этой реальности, но ее наполовину оживленный носитель и участник <…> Символ-слово, становящееся плотью, но не могущее ею стать, если же бы стало, то было бы уже не символом, а самою теургическою действительностью»30.
Далее Иванов указывает на ошибку Д. Мережковского, который не понимает, что это дело «не смертное и человеческое» и тем самым смыкается в своем символизме с материалистическим утилитаризмом «времен Белинского и 60-х годов».
С другой стороны, он обвиняет сторонников эстетической теории «искусства для искусства». Для поэта главным предметом искусства является Человек, но не польза человека, а его «тайна». «Другими словами, — человек, взятый по вертикали в его свободном росте вглубь и в высь. С большой буквы написанное имя Человек определяет собою содержание всего искусства; другого содержания у него нет. Вот почему религия всегда умещалась в большом и истинном искусстве; ибо Бог на вертикали Человека»31.
18 Во многих работах Иванов рассматривает два типа символизма — «идеалистический» и «реалистический». Он обращается к поэтам и писателям разных эпох, находя в их творчестве примеры того или другого направления. Например, он называет символизм Брюсова и Бальмонта «идеалистическим», так как эти поэты пользуются символом лишь как художественным средством. В статье «Две стихии в современном символизме» (1908) поэт говорит об этих типах символизма как о «равнодействующих и соревнующих между собою принципа художественной деятельности: с одной стороны, принцип ознаменовательный, принцип обретения и преображения вещи, с другой — принцип созидательный, принцип изобретения и преобразования»32.
С одной стороны — утверждение вещи, имеющей бытие, с другой — «вещи, достойной бытия», с одной — побуждение к движению, к новой жизни, с другой — статика, успокоение души в грезах и снах.
В статьях «Мысли о поэзии» (1938) и «Forma formans e forma formata» («Форма зиждущая и форма созижденная») (1939) Иванов вводит понятие «внутренней формы» или «формы зиждущей». Это «действенный прообраз творения в мысли творца»33. «Форма созижденная» — это само произведение, вещь, res. Иванов ссылается на подобные определения эпохи Возрождения «natura naturans» и «natura naturata» и подчеркивает, что применяет их к своим размышлениям об искусстве. Он утверждает, что «форма зиждущая» — не замысел творца, понятый как интенция, а «самостоятельное бытие, определившееся до существенной независимости от самого художника», «это — живая душа и готовое душевное тело изваяния, спящего в мраморной глыбе»34.
Персонаж, созданный писателем, начинает жить своей собственной жизнью, независимо от воли автора. В этом утверждении самостоятельного бытия художественного произведения Вячеслав Иванов совсем не одинок. Вспомним знаменитые пушкинские строки: «Представляете, что сделала моя Татьяна? Она отказала Онегину. Этого я от нее никак не ожидал». Или известные слова Льва Толстого, загадавшего на картах судьбу своих героев: «Пасьянс вышел, но Катюша не может выйти за Нехлюдова».
У Иванова идея свободы персонажа художественного произведения и самого произведения от художника сближается с идеей человеческой свободы, идеей человека не только творца своей судьбы, но и творца своего Творца. Воплощаясь в одного из героев романа (например, в качестве прообраза), автор становится его участником, проходит до конца его путь. «Это — уже самостоятельное бытие, определившееся до существенной 19 независимости от самого художника, взыгравшее в его “беременной” (по смелому выражению Платона) душе умная сила»35.
Именно поэтому искусство — это синоним Божественного творения, диалог и свободное сотрудничество.
«Искусство есть сообщение формы зиждущей через посредство формы созижденной. Сообщение есть поистине со-общение, т. е. есть общение; через посредство формы созижденной forma formans передает энергию свою чужой душе и вызывает в ней соответственное зиждительное движение. Подлинно понять великое произведение искусства значит подлинно пережить тот зиждительный акт, который продолжает в нем действовать, предоставляя ему дышать и распространять вокруг себя веяние и ритм свой тайной жизни»36. (Но, конечно, несмотря на всю свободу произведения, без воли автора в нем не может появиться ни одной запятой).
Таким образом, поэзия должна не отражать истину, а выявлять ее в постоянном диалоге, как бы «подталкивая» читателя (зрителя) в нужном направлении. Но вместо этой воистину теургической задачи художник все более навязывает миру свою субъективность, все глубже удаляется в «лабиринт уединившегося духа».
И правоверный Кальдерон
Провозгласил, что жизнь есть сон.
Жизнь сон, с тех пор как взял на веру
Адам, что скользкий мистагог
Сулил, и вверясь Люциферу,
Мир вызвал из себя, как бог.
И нежный рай, земле присущий,
Марой покрылся, в смерть бегущий.
(«Римский
дневник»)37.
Здесь необходимо вернуться к одной из самых важных проблем для Вячеслава Иванова — проблеме индивидуации. Индивидуация, по определению поэта, — замкнутость субъекта в его единичности. В этом понимании индивидуации ему близки орфическая и неоплатоническая философские традиции, а также некоторые идеи греческого философа Анаксимандра.
У Анаксимандра поэт берет понятие «вины обособленного возникновения». Эта «трагическая вина» становится одной из центральных тем художественного творчества Вячеслава Иванова, в том числе и его драматургии.
В ранней статье Иванова «Ницше и Дионис» (1904) впервые упоминается «психологическая загадка лицедейства», поэт впервые касается 20 вопроса психологии актерского творчества. Индивидуация (здесь в смысле индивидуальности) определяется как временная личина, т. е. маска. Раскол человечества на индивидуации объясняется расколом древнего архаического единства (общения, прозрачности), который затрудняет небесно-земной, трансцендентно-имманентный диалог.
«И, конечно, божественно окрылена и опрозрачнена жизнь и верен своему непреходящему “я” глубокий дух, если в нас живо сознание, что мы только играючи носим временные личины, облекшись в случайные формы нашей индивидуации»38.
Согласно Анаксимандру, лишь Беспредельное имеет истинное бытие. Любое существо своим появлением на свет в чем-то отрицает Беспредельное, а значит не право перед ним. Оно должно «искупить вину» своего появления на свет, то есть умереть. Так как существование любой вещи несет на себе печать вины, то и весь мир существует в какой-то неподлинной форме. Иванов возвращается к этому учению в своей книге «Дионис и прадионисийство», услышав его отголосок в орфическом мифологическом образе Диониса, растерзанного на части титанами.
Там же он указал и на то, что чувство постоянной «тоски разлучений», создающее «марево явлений», — основные мотивы «философии пессимизма» Шопенгауэра. «Мир похож на драмы Гоцци, — пишет Шопенгауэр, — где постоянно являются одни и те же лица, с одинаковыми замыслами и одинаковой судьбой; конечно, мотивы и события в каждой пьесе другие. Но дух событий один и тот же, действующие лица одной пьесы ничего не знают о событиях в другой, хотя сами участвовали в ней; вот почему после всех опытов прежних пьес Панталоне не стал проворнее или щедрее, Тарталья — совестливее, Бригелла — смелее и Коломбина — скромнее»39.
Индивидуация (или индивидуальность) становится у Иванова предпосылкой (в тексте — синонимом) личины-маски. Призыв «опрозрачить маску» — главный девиз его концепции соборного символистского театра.
Прозрачность, т. е. диалог — способ устранения призрачности этого мира. Диалог (как и символ) — утверждение духа в материи, примирение земного и небесного.
Нетрудно заметить, что Иванов находится здесь в русле немецкой романтической традиции. Главный пафос романтического творчества — переживание единства микрокосма и макрокосма, направленность субъекта на переживание целостности самого бытия, вера в его преображение силой искусства, установка на его «действительность» и «диалогичность».
21 Романтики объявили высшей формой искусства — миф. Мифотворчество романтиков — воплощение трагедии человеческого бытия, сквозь его многослойные маски просвечивает нечто «первоначальное, всецело неразложимое»40. Главная установка романтиков — с помощью мифа уничтожить грань между жизнью и искусством и переустроить мир по эстетическим законам.
Очевидно, что философия искусства романтизма близка Иванову, хотя мироощущение человека, верящего в христианские догматы, но живущего в конце XIX столетия, в мире, где «бог умер», было принципиально иным. На фоне всеобщего увлечения мистическими эзотерическими учениями поэт устремлен в глубину «доисторической архаики», «бессознательной памяти предания», где ищет философской экзегезы современному стремлению к саморазрушению и пути к его преодолению.
Кроме этого, к романтическому открытию универсальности мифа поэт добавляет свое исследование его логической структуры. Проникая в глубину прамифа, Иванов встраивает его в контекст более поздних мифов, контаминирует его различные варианты. Все это превращается у него в сложную многоуровневую философему.
«Философема представляется точною экзегезой мифологемы» — определение Иванова метода неоплатоников и орфиков, которое можно отнести и к нему самому. Миф о Боге Дионисе, растерзанном на части, становится у него философемой распада целостности мира. Поэт обнаруживает его в близких ему религиозно-философских воззрениях Достоевского и Вл. Соловьева, подтверждает догматами христианской церкви.
Миф о разрушении универсума до хаоса поэт продолжает мифом о возвращении хаоса к космосу. Воссоединение происходит через саморазрушение, то есть через жертву.
«Первородный грех» воплощения духа в материи создает непрерывную «цепь греха и возмездия». Ее начало в «двусмысленности и самоотрицании» всякого действия. «В каждом деянии, как и в каждом обособленном возникновении, таится обращенное внутрь его жало смерти»41.
Трагедия человеческого бытия — «первородный грех человеческой свободы» — цепь Прометея, которую кует он сам. Главная цель символического искусства — отражение этой трагедии. Это отражение не только эстетическое, но главным образом жизнетворческое, поскольку художник-творец принимает в этом процессе самое непосредственное экзистенциальное участие. Теория символизма Иванова является частью его теории богочеловеческого диалога.
22 Для поэта миф — это диалог символов. В этом определении Вяч. Иванов близок тем теоретикам символизма, для которых миф это само бытие, явленное в слове-символе (например, А. Ф. Лосеву). Миф, по утверждению Иванова, это «синтетическое суждение, где подлежащее — понятие символа, а сказуемое — глагол: ибо миф есть динамический вид (modus) символа, — символ, созерцаемый как движение и двигатель, как действие и действенная сила»42.
Таким образом, миф — не просто суждение о бытии, которое связывает символ и его проявление (или понятие и предикат), а некое синтетическое действие (действо) духовного определения сознания не в реальное, а в сверхреальное бытие.
Мифотворчество — вид диалога или проникновения (художественного, теургического) сверхреальнейшего в мир.
Символизм — мифо-творчество во всех сферах человеческой деятельности (включая жизнетворчество), теургическая деятельность, выводящая человека, вещь, (res) к реальнейшему (ad realiora). Миф изначально отрицает замкнутость, это изначальная динамика, перерастание себя, открытость. «Я не символист, если мои слова не вызывают в слушателе чувства связи между тем, что есть его “я”, и тем, что зовет он, “не-я”, — связи вещей, эмпирически разделенных; если мои слова не убеждают его непосредственно в существовании скрытой жизни там, где разум не подозревал жизни, если мои слова не движут в нем энергии любви к тому, чего дотоле он не умел любить, потому что не знала его любовь, как много у нее обителей»43.
Миф — это созерцание «мировой действенности и ее мирового действия»44. Иными словами, мифотворчество для Иванова — это одна из возможностей вырваться из гибельной замкнутости индивидуальности с помощью символистских, «культурно-значимых» явлений.
Поэт, согласно учению Платона, называет эту любовь Эросом. «Символ — творческое начало любви, вожатый Эроса»45. Знаменитая фраза Иванова — «Культура — лестница Эроса и иерархия благоговении»46 предполагает также благоговейное отношение к поэтическому языку, слову, смысловой насыщенности поэтического образа. «Итак, поэзия должна давать “всезрящий сон” и “полную славу мира”, отражая его “двойною бездной” — внешнего, феноменального, и внутреннего, ноуменального постижения»47.
«Слово-символ делается магическим внушением, приобщающим слушателя к мистерии поэзии»48. В архаическую эпоху единства земного и небесного назвать вещь означало ее сотворить. Слово переходило в явление, как символ переходит в миф. Таков сакральный смысл древнейшего 23 диалога, который нашел отражение в пророческом служении и мистериальных культах. Особое отношение к поэту как к пророку означает главным образом то, что поэт-пророк становится демиургом и не предсказывает, не провидит, а творит явления-события.
Язык — одновременно дело и действенная сила (ЭРГОН и ЭНЕРГИЯ). Для поэта язык — это «соборная среда». Оттого так воинственно ополчился Иванов в статье «Наш язык» (написанной в 1918 году для сборника «Из глубины») не только против бессмысленных словообразований, против так называемого «новояза», но и против орфографической реформы, посвящая свои самые вдохновенные строки твердому знаку.
Примечательно, что основные идеи «теории языка», связанные с теорией символа, в сжатой конспективной форме были представлены Вячеславом Ивановым — двадцатитрехлетним студентом-историком — еще в 1889 году в виде записей, заметок «для себя» объемом около семи страниц. Уже здесь он четко формулирует две важные идеи — проблема «типического» и проблема соотношения «общего» — «особенного». Мы видим здесь связь идей Иванова с идеями Гегеля и Дильтея, которые в данном вопросе являются его союзниками.
«Общему», считает Иванов, полагает «грани» требование «индивидуального». Для поэта римское искусство было «чистой абстракцией», а эллинское — «нечистой». Благодаря этой «примеси» произвольных и индивидуальных черт эллинские «нечистые» абстракции стали «человеческими типами». Но какова природа этого индивидуального и куда может завести художника смешение «чистой абстракции» с «произвольно-индивидуальным»? Вопрос о мере индивидуального поэт связывает с вопросом о «гранях», которые ставят ему «предел».
Пройдет совсем немного времени, и Иванов будет говорить о двух началах в искусстве — дионисийском и аполлоническом — и о синтезе этих двух начал. Здесь же он пишет о «внутреннем единстве» — общего и особенного, индивидуального и универсального, которое и является сутью «наиболее плодотворной типической абстракции». Здесь начало учения Иванова о символе.
Из первой части этих заметок органично вытекает вторая, основная, посвященная слову как эквиваленту мысли: «Чтобы действие выражения было равносильно мысли, им выраженной, им изображаемой, должно, чтобы оно обладало теми же свойствами многосторонности и глубины, как сама вещь или мысль, объективно взятая как явление»49. «Многосторонность» слова, придающая ему как бы двойной, скрытый смысл — залог его действенности, его сакральности. Его действенность выражается опять же в «подталкивании» воспринимающего в «нужную сторону».
24 «Бывают выражения, в которых, быть может, бессознательно выражающий употребляет или такие особенные образные подробности, или такие особенные слова, или такие особенные звуковые соединения, которые вызывают в слушателе мысли и образы, прямо или сознательно не связанные с тем, что нужно выразить. Но которые, однако, внутренне оказываются родственными с ним, расширяют и углубляют впечатления, придают сказанному как бы двойной скрытый смысл. Так поступали, отчасти, оракулы. Но в них искусственно производится то, что должно быть следствием непосредственной дивинации»50.
Дивинация — отыскание «истинного выражения». Образцы такой речи Иванов находит в библейских пророчествах.
Здесь же поэт говорит о «равновесии» латинского языка, сочетающего силу и вес каждого слова со способностью к группировке слов, что придает ему образную «вескость». Такой же «вескостью» обладает и русский язык, сохраняющий независимую силу отдельного слова. «Слова в нем величавы, вески, часто длинны, без тяжести и вооружены роскошными окончаниями»51.
Концепция слова как «вместилища сакрального» имеет мощные философские и теологические традиции — от концепции слова как «растворенного образа» («image soluble») у французских символистов до духовной традиции имяславия.
Для Иванова цель этого тайнодействия — преодоление разделения форм бытия, установление диалога, преодоление изначальной раздробленности.
В одной из своих первых статей «Копье Афины» (1904) поэт комментирует ряд своих стихотворений и указывает на свою любимую строку: «становлюсь, значит не есмь», с которой он вступает в полемику со знаменитым утверждением Декарта: «Cogito, ergo sum». «Я становлюсь: итак не есмь. Жизнь во времени умирание. Жизнь — цепь моих двойников, отрицающих, умерщвляющих один другого. Где Я? Вот вопрос, который ставит древнее и вещее “Познай самого себя”, начертанное на Дельфийском храме подле другого таинственного изречения “Ты еси”»52.
Где я? где я?
По себе я
Возалкал!
Я — на дне своих зеркал.
Я — пред ликом чародея
Ряд встающих двойников,
Бег предлунных облаков.
(«Fio, ergo поп sum»)53
25 Согласно Иванову, индивидуация — это грех, ставящий человека перед угрозой небытия. Что же в таком случае может его спасти? Выход, найденный Ивановым, очень прост. Это наведение второго зеркала, отражающего «Ты еси», познание себя в другом. В статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» поэт пишет: «Все, что познает человек, является зеркальным отражением, подчиненным закону преломления света, и, следовательно, неадекватным отражаемому <…> Как восстанавливается правота отражения? Через вторичное отражение в зеркале, наведенном на зеркало. Этим другим зеркалом speculum speculi — исправляющим первое, является… другой человек»54.
Примечательно, что одну из книг в «Cor Ardens» поэт называет «Speculum speculorum» («Зеркало зеркал») и посвящает ее Валерию Брюсову, предваряя следующим эпиграфом: «Immutata dolo speculi recreatur imago adversis speculis integram ad effigiem»55. Неизменно предмет, обманно отраженный в зеркале, вновь обретает свой подлинный образ отражением в (тому зеркалу) противопоставленных зеркалах.
Помимо статьи о Вл. Соловьеве, работ о Достоевском и поэмы «Человек» этим идеям посвящены статьи «Ты еси» (1907) и «Anima» (1937).
EI — надпись на храме Аполлона в Дельфах, увиденная поэтом в 1901 году, над которой он размышлял всю жизнь. Этот простой, казалось бы, глагол вызывал в древности множество толкований. В архаическую эпоху глагол «быть» относился к божественному бытию. Говоря Богу «Еси» (т. е. «Будь»), человек по сути говорит Ему — «Да». Это действие помогает человеку выйти за границы своей «целюлярности». Благодаря этому субъект начинает воспринимать чужое «я» не как объект, а как другой субъект, тем самым утверждая и свое существование, и свою сущность. Es, ergo sum. («Ты еси, значит я есмь»).
Нетрудно заметить, что хотя поэт и пользуется образом двух зеркал, отражающих друг друга, действие, которое при этом происходит, он определяет не как отражение, а как проникновение. Иванов пишет об этом проникновении, определяя его как transcensus субъекта. Иванова интересует то, каким образом может происходить диалог имманентного и трансцендентного, личности и Абсолюта. То есть его интересуют виды мистического экстаза, который является единственным способом этого диалога в разорванном, разъединенном мире.
В книге «Эллинская религия страдающего бога» (1904 – 1905) поэт приводит различные виды дионисийского экстаза, который является главной и неотъемлемой частью религии Диониса. Проследив возникновение дионисийского оргиазма, рождение дионисийского культа священного безумия, отметив его присутствие в других культах, Иванов 26 использует затем этот термин как определение для обозначения не столько психологического феномена, сколько организации внутренней жизни личности, культуры и пр. по типу трансцендирования, т. е. диалога. От религиозного обряда Иванов переходит к мистериям и рождению трагедии, проверяя все этим термином. Театральное искусство не могло не заинтересовать его, так как по своей сути, по своему определению это искусство основано на такого рода «безумии» (или диалоге).
Дионисийское начало для Иванова всегда «порыв», аполлоническое — «грани» (с дихотомией Дионис-Аполлон Ницше поэт познакомился еще в 1890 году).
В религии Диониса Иванов выделяет еще один важный момент — идею единства жреца и жертвы. Дионис — бог страдающий, бог-жертва, бог, разорванный титанами. В ознаменование этого события приносятся ответные жертвоприношения. Жертва — это добровольная смерть. Добровольной смертью является и мистериальное действо — жертвенное служение.
Познай себя, кто говорит: «Я — Сущий».
Познай себя, — и нарекись: «Деянье».
Нет человека, бытие — в покое;
И кто сказал: «Я есмь», — покой отринул.
Познай себя: свершается свершитель,
И делается делатель, ты — будешь.
«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва»,
Се, действо — жертва. Все горит. Безмолвствуй56.
Поэт использует этот стихотворный отрывок в качестве автоцитаты для комментария своих идей в статье «О действии и действе» — предисловии к трагедии «Прометей». Прометей называет себя в трагедии жрецом и жертвой. В другой трагедии — «Тантал» Иванов говорит о проблеме угодной и неугодной жертвы.
Самые повторяющиеся определения поэта: «жизнь — вселенская жертва», «истинная Любовь — таинственная жертва». Тогда как «зеркальность» становится у него почти синонимом греховности. Так, в статье «Достоевский и роман-трагедия», противопоставляя Л. Толстого и Ф. Достоевского, он сравнивает Толстого с зеркалом. «Толстой поставил себя зеркалом перед миром, и все, что входит в зеркало, входит в него: так он хочет наполниться миром, взять его в себя»57.
Этот акт поэт называет наблюдением и созерцанием, за ним должен последовать второй акт — заботы о мире, служения миру. Но у Льва Толстого, считает Иванов, «внутренний процесс, лежащий между этими 27 двумя актами отношения к миру, был процессом обесцвечивания красок жизни»58.
Почти такую же характеристику дает себе герой его трагедии — Тантал.
… Я зеркалом
сиял недвижным, и в меня гляделся мир
(но зеркалом моим был мир воистину)59.
Достоевского же Иванов характеризует как человека и художника, постоянно трансцендирующего из себя. «Он весь устремлен не к тому, чтобы вобрать в себя окружающую его данность мира и жизни. Но к тому, чтобы, выходя из себя, проникать и входить в окружающие его лики жизни; ему нужно не наполниться, а потеряться»60.
Связь творец-творение Иванов описывает в своей теории восхождения и нисхождения. Поскольку для поэта все мифы — это эпифании Бога, он описывает процесс мифотворчества в образах мистической эпифании.
В статье «О границах искусства» (1913) он приводит две схемы такого теургического восхождения-нисхождения в духе платоновского мифа: «… Художник восходит до некоторой точки в сфере высших реальностей, переживание коих обусловливает впервые возможность интуиции, чтобы низойти затем к реальности низшей. Но вспомним, что на пути к этой точке ему пришлось пересечь пелену миражных зеркальностей, которая не задержала его, потому что сила его дарования сделала его, при этом прохождении, подобным Одиссею, не позволяющему себе плениться прельстительными зазывами сирен. В своем нисхождении художнику придется опять перейти через эту страну марев, но тут она для него уже безопасна, потому что он уже преодолел ее, преодолел на пути восхождения, как зеркальный соблазн чистого субъективизма. Напротив, теперь он намеренно замедлит в ней, чтобы создать из ее пластической туманности призраки — образцы своих будущих глиняных слепков <…> Эти, вызываемые художественными чарами, видения, суть, аполлонийские видения, которыми разрешается дионисийское волнение интуитивного мига. Творчество этих призраков есть момент собственно мифотворческий; он заслуживает этого имени в той мере, в какой содержательно и прозрачно в нем откровение высших реальностей»61.
Данный отрывок — характерный пример поэтического стиля философской прозы Вячеслава Иванова.
В ряде работ Иванов совмещает теорию двух символизмов с анализом конкретных исторических эпох, эстетических стилей и отдельных 28 художественных произведений, особое внимание уделяя музыке и театру. Согласно Иванову, еще в IV веке в античном мире на смену реалистическому символизму приходит идеалистический, который занимает господствующее положение, и затем на излете средневековья уже окончательно «предает», как он пишет, «Афродиту небесную Афродите земной». XIX век — это, безусловно, век царящего канона «воплощенной красоты классицизма и парнассизма». Расцвет идеалистической или «индивидуалистической» культуры в начале XX века является одновременно и началом ее упадка. Иванов провозглашает наступление «новой органической эпохи» в ближайшем будущем и именно в России. Это утопическое утверждение связано с кругом так называемой «русской идеи».
Историософская концепция Вяч. Иванова перекликается также с идеями К. Леонтьева и О. Шпенглера. Его «органическая эпоха» соотносится с «периодом культуры» К. Леонтьева и О. Шпенглера. Это эпоха духовного поиска, что выражается, например, в создании новых видов и жанров искусства и географических открытиях. «Критическая эпоха» Иванова соответствует «периоду вторичного упрощения» К. Леонтьева и «времени цивилизации» О. Шпенглера. Это время перелома. Мироощущение человека этого времени трагично. Искусство и философия такой эпохи индивидуалистично и субъективно, либо, наоборот, утилитарно и прагматично, объективно.
Вячеслав Иванов упрекает современных художников в утилитаризме, позитивистском видении жизни. Но и сам поэт в свою очередь подвергался подобным обвинениям. Ему и его единомышленникам — сторонникам теургического назначения искусства указывали на то, что они на новом историческом витке пытаются возобновить народнический утопизм и прагматизм середины XIX век, добавляя к уже надоевшим притязаниям искусства на моральное учительство, роль духовного наставника, а к идеям социального реформизма — утопические идеи жизнетворчества и устроения жизни по особым эстетическим законам.
В картину мира «органической эпохи» Иванов вписывает свою картину «театра будущего» — «соборного» театра, призванного осуществить духовное преображение человечества. Таким образом, концепция «соборного театра» является у поэта эстетической и одновременно религиозно-философской. Она связана с его пониманием «соборности», которое, несмотря на кажущееся различие с подобным определением славянофилов, все же имеет с ним больше внутренних связей, чем различий.
Возникновение понятия «соборность» принято связывать с одним из «основателей» славянофильства — А. С. Хомяковым. По определению Хомякова, «собор выражает идею собрания, не только в смысле 29 проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами: выражает идею единства во множестве»62.
К идее «соборности» Иванов обращается в разные периоды своего творчества, но само определение этого понятия появляется у него с середины 10-х годов (главные работы этого времени — «Легион и соборность», «Лик и личины России»). Иванов четко разграничивает понятия «легион» и «соборность». Он соглашается с Н. Бердяевым в том, что «соборность — собранный дух». «Соборность» в его понимании «задание», а не «данность». «Соборность» — мистическое единение в духе, которое помогает каждому человеку раскрыть свои творческие способности. Человек в «соборном» состоянии является «прозрачным», абсолютно открытым к богочеловеческому и человеческому диалогу, общению «в духе». Соборное творчество — теургическое творчество. Понятие «соборности» у поэта тесно связано с понятием «теургии». Всенародность, «духовное общение в любви» — такие же свойства теургии, как и «соборности».
«Теургия» — неоплатонический термин, означающий богодействие. Его ввел в символический обиход Вл. Соловьев, как определение действия, в котором Бог творит через человека, который является для него в этом смысле «орудием действия».
Рассуждая о теургическом назначении искусства, Иванов иногда переступает грань между желаемым и действительным. В его теоретических построениях такой идеал свободного творчества представляется порой неким действительным «всенародным делом». Это превращение «задания» в соблазн «данности», которое ставится в упрек Иванову, объясняется его реальной оторванностью от современной ему российской действительности. Но отметим также и то, что поэта никогда не интересовала теология в чистом виде, философия вне практики, умозрительные рассуждения без конкретного человеческого опыта. Объективная онтология поэта и философа Иванова имеет ярко выраженную психологическую направленность.
«Дионисийские» идеи Иванова связаны с его концепцией «восхождения-нисхождения». Восхождение — проникновение в тайны мира, таинство божественного мистического брака или «Эрос невозможного». Нисхождение — отдача избытка, отражение реальности в зеркале духа.
Восхождение-нисхождение — концепция вертикально выстроенных отношений с Абсолютом. Иванов дополняет ее горизонталью — идеей мистического любовного взаимопроникновения личностей: «Tat twam asi» («Это именно, каждый отдельный индивидуум — ты сам»).
30 В страждущем страждешь ты сам: вмести сораспяться живому.
В страждущем страждешь ты сам: мужествуй, милуй, живи63.
В примечаниях к одному из ранних стихотворений из «Кормчих звезд» — «Миры Возможного» (1890) — комментарий О. Дешарт о том, что понимание «трагической вины» у Иванова возникло из глубины личного внутреннего опыта.
Эти стихи посвящены «памяти погибшего». Это был молодой ученый, который неожиданно убил другого человека и себя. Поэта глубоко потрясло случившееся, и хотя он почти не знал молодого человека и ко всей драме причастен не был, он почувствовал себя виновным. «Чувство ответственности и вины все обострялось, нарастало, становилось мучительным кошмаром. Чтобы избавиться от кошмара поэт заговорил о нем в дантовских терцинах. Рассказав страшный сон, покаявшись в небывшем преступлении, он услышал ответ “духа”:
… О плачь! Плачь в скорби безутешной!
Рыдай, и рви власы, и смой проклятья
С души, без грешных дел в возможном грешной!
В “Мирах Возможных” — грешен. Таково было событие внутреннего опыта <…> Проблема “миров возможных” перешла в проблему возможности их осуществления и возможности катартики, в исследование личины-маски в античной трагедии и “вакхов” как ипостасей <…> Оно устремило В. И. к углубленному раздумью над идеями соборности и монантропизма»64.
Эту виновность каждого друг за друга (по Достоевскому «каждый за всех и за все виноват») поэт осмысливает в учении о связи всех явлений в понятиях причинности и времени, текущего в двух направлениях; от причины к следствию (Ройя) и обратно — встречная причинность (Антиройя). Об этом Иванов пишет в стихотворении «Сон Мелампа»:
«Где я?» — воскликнул Меламп. И запела Нива: «Мы — пажить Вечных причин. Нас пришелец, познай, — если ты посвященья Просишь от Змей боговещих, чье имя — Змеи-Причины»65.
Путь, предлагаемый поэтом — мистерия человеческого духа — от осознания себя как микрокосма, центра мира, зеркала мира к осознанию мира как зеркала себя — и до окончательного опрозрачивания — «это ты сам».
Отголодавшая старуха, Под белым саваном лежу. Священник, фимиамом Духа Над желтой мумией кажу.
31 И
свечку, чуженин захожий,
В перстах рассеянных держу;
На кости под иссохшей кожей
В недоумении гляжу…
(«Человек»)66.
Эти строки — начало той части поэмы, которая называется «Человек един». Название говорит само за себя. Эта часть написана в 1919 году, когда «мир расколотый борьбой» стал для поэта повседневной реальностью. Эпилог поэмы — описание мистического видения соборности. Поэт пользуется здесь символикой библейской книги Апокалипсис, а последние строки поэмы представляют собой молитву «Царю небесный» в авторском переложении.
Таким образом, поэма, начинавшаяся с библейской истории сотворения человека и его грехопадения, кончается историей его спасения, возвращения к Небесному Отцу и первоначальному соборному единству.
Утверждение примата «Ты» привело к утверждению принципа, объединяющего и содержащего все «я» и все «ты» — к постулату Бога. Таково толкование поэтом двух надписей на древнем храме: «Ты еси» и «Познай самого себя».
«Познание сущности мира есть акт любви; акт любви — творческий акт»67. Эта знаменитая фраза Вяч. Иванова напоминает «философию любви» Вл. Соловьева и отсылает к Платону.
История встречи Вячеслава Иванова и Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал описана у поэта достаточно подробно. Иванов посвятил этому чувству самые вдохновенные строки, описывая в максимально сконцентрированном поэтическом пространстве весь путь зарождающегося чувства от — «мы два грозой зажженные ствола» до — «мы две руки единого креста».
«Друг через друга нашли мы — каждый себя, и более чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога»68. По воспоминаниям Е. Герцык, которая была близким другом Иванова в 1906 – 1909 годах (поэт называл ее sorella — сестра), смерть Лидии Дмитриевны — трагедия, истребившая в поэте «остатки идеалистического платонизма». Пройдя через все искушения и соблазны «бегства от мира», сознание поэта с этого времени становится все более христоцентричным.
Лидию Дмитриевну Зиновьеву-Аннибал совершенно справедливо называют Музой и вдохновительницей поэзии Вячеслава Иванова. Но нетрудно заметить, что еще до встречи с ней Ивановым были написаны многие замечательные поэтические строчки. И рождение Вячеслава Иванова как поэта произошло, может быть, благодаря его первой жене — 32 Дарье Михайловне Дмитриевской, которая принесла его стихи на суд к Владимиру Соловьеву, чье одобрение имело для Иванова решающее значение. Письма поэта к Дмитриевской свидетельствуют о глубокой духовной близости и взаимном чувстве.
С историей первого брака Иванова связан первый миф его жизни. Это миф «о спасаемой, зачарованной душе» и о ее женихе-царевиче, который разыскивает свою невесту, узнает и спасает. Случившийся впоследствии развод представляется поэту роковой изменой Фауста или Ставрогина. Сама жизнь поэта-символиста строится по законам действенного символизма-мифотворчества, т. е. действия, связанного с восприятием мира как одухотворенного, религиозно-осмысленного (в значении глагола «religare» — соединять).
Третий брак Вячеслава Иванова — с падчерицей Верой Шварсалон — описан им в духе идеи о «вечном возвращении». Эта идея поэта не имеет ничего общего с «вечным возвращением» Ницше или учениями восточной философии.
Идея «вечного возврата» Иванова связана с его особым отношением к Памяти. Размышления поэта о Вечной Памяти, Памяти Мнемозине и Памяти Анамнезисе является частью его идеи соборности.
Мнемозина — Вечная Память, духовный диалог между ушедшими и живыми, т. е. духовная культура. «Культура — культ отшедших, и Вечная Память — душа ее жизни, соборной по преимуществу и основанной на предании»69.
Анамнезис и Мнемозина — это диалогическая установка сознания, об этом он пишет во многих своих работах. В главном произведении, посвященном этой проблеме — «Переписке из двух углов», философия культуры перетекает в философию человека, в ней же — идеи христианского персонализма и феноменологии религии, которые привлекли к этой работе внимание западных философов XX века. Забыть о том, что «культура — это культ предков» — это для Иванова просто «забыть» т. е. — «не быть».
«Философия культуры в устах моего Прометея — моя философия —
Измыслят торговать,
Художествовать, воинствовать, числить
И властвовать, и рабствовать — затем,
Чтоб в шуме дней, в заботах, в сладострастья,
В мечтах забыть о воле бытия
Прямой и цельной. А дикарь в пустыне
Бродить, понурый, будет…»70.
33 Для Иванова культура — thesaurus, для его оппонента — Гершензона — tabula rasa. Точку зрения Гершензона поэт называет монологической. Диалог — это соборность, а соборность — связь теургическая, символически-религиозная.
В примыкающих к «Переписке из двух углов» «Письме к Дю Босу» и «Письме к Пеллегрини» Иванов привлекает к себе в союзники отцов церкви и ранних мистиков. Поэт делает вывод о том, что любая большая культура является эманацией памяти, «посредством которой нетварная Премудрость учит человека превращать средства вселенской разлуки — пространство, время, инертную материю в средства единения и гармонии, что ведет к осуществлению изначального промысла Божия о совершенном мире»71. Так как культура есть отражение той или иной ипостаси Слова, то ее истинная цель для Иванова — «всеобщий анамнезис во Христе».
В связи с этим можно заметить, что сам философский метод Иванова — объединение различных художественных и философских систем, имен и автоцитат, развивающееся в самостоятельное суждение. Это не контаминация и не интерпретация, а именно соборная, символистская авторская художественная и философская система.
И поэт чему-то учит,
Но не мудростью своей:
Ею он всего скорей
Всех смутит иль всем наскучит.
Жизнь сладка ль на вкус, горька ли,
Сам ты должен распознать,
И свои у всех печали:
Учит он — воспоминать72.
16 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1974 – 1987. Т. 1. С. 263.
17 Там же. Т. 1. С. 789.
18 Там же. Т. 2. С. 14.
19 Там же. С. 165.
20 Аверинцев С. С. Разноречие и связность мысли Вячеслава Иванова // Иванов В. Лик и личины России. М., 1995. С. 17 – 19.
21 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 198.
22 Там же. Т. 2. С. 157.
23 Иванова Л. В. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 43.
24 Иванов В. И., Метнер Э. Переписка из двух миров (1911 – 1933) // Вопросы литературы. 1994. № 2. С. 309.
25 Шишкин А. Б. К истории поэмы «Человек» Вячеслава Иванова // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1992. Т. 51. № 2. С. 56.
26 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 742.
27 Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 22.
28 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 693 – 694.
30 Там же. С. 614.
31 Там же. С. 614.
32 Там же. С. 546.
33 Там же. Т. 3. С. 667.
34 Там же. С. 668.
35 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 668.
36 Там же. С. 681.
37 Там же. С. 616.
38 Там же. Т. 1. С. 725.
39 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1992. Т. 1. С. 197.
40 Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 155.
41 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 159.
42 Там же. С. 594 – 595.
43 Там же. С. 608 – 609.
44 Там же. Т. 4. С. 438.
45 Там же. Т. 2. С. 606.
46 Там же. Т. 3. С. 386.
47 Там же. Т. 2. С. 592.
48 Там же. С. 593.
49 Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 25.
50 Там же. С. 25 – 26.
51 Там же. С. 25.
52 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 732 – 733.
53 Там же. С. 741.
54 Там же. Т. 3. С. 303.
55 Там же. Т. 2. С. 284.
56 Там же. С. 157.
57 Там же. Т. 4. С. 416.
58 Там же. С. 416.
59 Там же. Т. 2. С. 28.
60 Там же. Т. 4. С. 416.
61 Там же. Т. 2. С. 644.
62 Русская философия: Словарь. М., 1995. С. 595.
63 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 642.
64 Там же. С. 859.
65 Там же. Т. 2. С. 296.
66 Там же. Т. 3. С. 233.
67 Там же. Т. 4. С. 273.
68 Там же. Т. 1. Т. 2. С. 20.
69 Там же. Т. 3. С. 92.
70 Там же. С. 412 – 413.
71 Там же. С. 445.
72 Там же. С. 592.
35 Глава 2.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПОЭТА-СИМВОЛИСТА
2.1 «ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАГЕДИИ»
|
Есть в лицедейном беснованье Вяч. Иванов. |
«Возникновение трагедии», «Пафос, катарсис, трагедии» — главы исследования Вячеслава Иванова «Дионис и прадионисийство» (1923), подводящего итог его размышлений о религии Диониса и «дионисийстве», о возникновении и природе трагедии, тесно связанной с этой религией, обрядом, культом. «Дионисийские» темы у Иванова появляются в 1884 – 1885 годах, образы и категории Аполлона и Диониса используются им в разные периоды творчества, но по-разному.
В начале 90-х годов молодой ученый — античный историк и филолог знакомится с работой Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». В научный и поэтический обиход этого времени входит понятие «аполлонического» и «дионисийского» начал. Ницше дал своим последователям мощный импульс — «взглянуть на науку под углом зрения художника». На первом этапе, который мы условно назовем «лирическим», Дионис для Иванова — поэтический образ. Он появляется в сборниках «Кормчие звезды» (1903) и «Прозрачность», объединяющих и совсем ранние и более поздние стихотворения.
Дионис у Вячеслава Иванова, конечно же, не просто образ, но символ. Он как всегда «многогранен» и уводит читателя в глубину будущих размышлений поэта.
В стихотворении «Тризна Диониса» содержится схема театральных идей поэта. Стихотворение было написано 20 – 21 января 1895 года под влиянием знакомства с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал и совместной прогулки к остаткам древнеримского театра в Фьезоле:
Зимой, порою тризн вакхальных,
Когда Мэнад безумный хор
Смятеньем воплей погребальных
Тревожит сон пустынных гор, —
На высотах, где Мельпомены
Давно умолкнул страшный глас
И меж развалин древней сцены
Алтарь вакхический угас, —
36 В
благоговеньи и печали
Воззвав к тому, чей был сей дом,
Мэнаду новую венчали
Мы Дионисовым венцом…73
Театр в этом стихотворении — «священный Вакхов полукруг». Призыв к «дионисийскому дерзанью» («земных обетов и законов дерзните преступить порог») разрешается видением страдания, жертвы и искупления («и в муке нег, и в пире стонов, воскреснет исступленный бог!»). «Тризна Диониса» — похоронный плач, а обряд погребения бога — источник возникновения трагедии.
Стихотворение проникнуто духом лирической печали, тоски — оно посвящено воспоминанию о радости и грусти любовного переживания, расставания и встречи:
Дул ветер; осыпались розы,
Склонялся скорбный кипарис…
Обнажены, роптали лозы:
«Почил великий Дионис!»
И с тризны мертвенно-вакхальной
Мы шли, туманны и грустны;
И был далек земле печальной,
Возврат языческой весны74.
«Тризна Диониса» — одна из первых публикаций Иванова-поэта. Стихотворение вышло в свет в 1898 году в журнале «Космополис».
Второй этап, или период, можно назвать «философским». Дионис становится для Иванова предметом исторического и филологического исследования, объектом философской рефлексии и интерпретации. Этот период начинается в конце 90-х годов, когда поэт приступает к изучению религии Диониса.
В это время происходит формирование религиозно-философских воззрений поэта, он увлекается «философией пессимизма» Шопенгауэра, «философией всеединства» Владимира Соловьева и идеями Фридриха Ницше. В 1901 – 1902 годах в Афинах Иванов собирает обширный научный материал о дионисийских культах. Исторический научный интерес сочетается у него с личным религиозно-философским импульсом. Это изучение, пишет он в «Автобиографическом письме», «было подсказано настойчивой внутренней потребностью: преодолеть Ницше в сфере вопросов религиозного сознания я мог только этим путем»75.
В 1903 году Вячеслав Иванов прочитал курс лекций о религии Диониса в Высшей школе Общественных наук, устроенной в Париже М. М. Ковалевским для русских. Эти лекции послужили основой для 37 работы «Эллинская религия страдающего бога», которая публиковалась в руководимом Д. С. Мережковским журнале «Новый путь». В 1905 году журнал поменял название на «Вопросы жизни» (его главным редактором стал Н. Бердяев), цикл публикаций продолжался под названием — «Религия Диониса. Ее происхождение и влияние».
Незадолго до парижских лекций Иванов написал небольшую статью (предварительный набросок своих будущих «дионисийских» идей), которая называется «О многобожии». Эта статья, с изменениями и в расширенном контексте, позже была воспроизведена им в заключительной главе «Эллинской религии страдающего бога». (Глава 5: Заключение: общеисторические и философские выводы. Дионис и религиозная проблема).
Интересно, что в своей работе мыслитель от философских выводов следует к историческим фактам. Отсюда можно сделать заключение о методе Вячеслава Иванова — античного историка и филолога. Некоторые исследователи определяют этот метод как «антиисторический», «иррационалистический и мифологизирующий» (Гвидо Карпи), как теологический «конструктивный пафос» (Н. Брагинская), как «эмпатический» принцип — т. е. принцип сопереживания исторически далекого религиозного опыта (В. Рудич), мифологические построения Иванова совершенно справедливо сравнивают с поздними построениями В. Ф. Отто, К. Керени, М. Элиаде.
Возможно, что такой подход к истории можно определить как «метаисторический» и «символический». Для Иванова история имеет определенное течение, теологический смысл, поэтому книга имеет и «сверхисторическую», «профетическую» направленность, задачу проповеди живого внутреннего опыта. Из письма Вячеслава Иванова к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от 24/10 декабря 1901 года: «Благородная страсть проходит через мир как во сне, со взглядом, устремленным далеко вперед, на одну намеченную точку, выбранную где-то высоко над горизонтом повседневной жизни»76.
Замена «рационального» историзма мифологизирующими историческими теориями — характерная черта эпохи рубежа веков. Отталкивание от позитивистской науки, критического и аналитического духа «обезбоженной» эпохи происходило в сторону «нового религиозного сознания» и художественных утопий.
От «сверхисторического» изучения религии Диониса Иванов обращается к созданию собственных художественных мифов. В 1903 году он задумывает драматическую трилогию.
Философема поэта — образное описание фактов религиозного сознания — превращается в мифологему — своего рода универсальный 38 код не только для описания природы религии, творчества, искусства, но и для сотворения новых мифологических конструкций. Все это мы найдем в его статьях, публикующихся в первое десятилетие XX века в журналах «Вопросы жизни», «Новый путь», «Русская мысль», «Весы».
В 1913 году в Риме было написано исследование, касающееся отдельных проблем дионисовой религии, и подготовлена к печати монография «Эпос и начало трагедии». Работа так и не увидела свет, но некоторые ее фрагменты были напечатаны в виде отдельных статей.
В 1921 году Вячеслав Иванов защитил в Бакинском университете докторскую диссертацию. Дополненная четырьмя главами, она была опубликована в 1923 году под названием «Дионис и прадионисийство».
Если в «Эллинской религии» была поставлена проблема дионисизма как психологии экстаза и мистики дионисийской жертвы, то исследование «Дионис и прадионисийство» посвящено прадионисийским корням Дионисовой религии. Этот период в творчестве Иванова можно условно назвать «научным». Мы видим здесь явную тенденцию к строгому научному анализу, а образный, «поэтический» аппарат все больше корректируется научными понятиями, хотя стремление синтезировать научное и символическое мышление не оставляло Иванова даже при написании докторской диссертации.
Это вызвало спор и возражение оппонентов на открытом заседании историко-филологического факультета Бакинского университета. Оппонентами Иванова были профессора А. О. Маковельский, Л. Г. Лопатинский, Е. П. Байбаков и А. Д. Гуляев.
Е. П. Байбаковым были написаны шутливые стихи, в которых излагались основные тезисы оппонентов и ответы Вяч. Иванова:
По приглашению Ишкова,
Сюртук одернув, с места встав,
Свое вступительное слово
Пропел собранью Вячеслав.
Начался диспут. Выступает — возражения А. О. Маковельского
Философ с пасмурным лицом,
На Вячеслава нападает,
Грозит бедняге кулаком.
Философической системы
Ты не понял, о друг, пойми!
И, о позор, мифологему
С обрядом спутал, черт возьми.
Научной совести не трогай, — ответ В. И.
Замолкни, дерзкий философ,
Я через миф в обряд дорогу
39 Всегда
отыскивать готов.
Плетешь ты факты слишком смело — возражения Е. П. Байбакова
Везде и всюду Дионис,
А где ж, скажи, maman
Кибела
Изида, Аттис, Озирис?
Невыносимее для слуха — ответ В. И.
Нет ничего таких речей.
Твоя Кибела — потаскуха,
И Дионис не знался с ней!
Я признаю твои буколы — возражения Л. Г. Лопатинского
Одно лишь ты не разгадал:
С похмелья, что ли, Вакх веселый
Вдруг Дионисом мрачным стал!?
Нет свыше сил моей природы — ответ В. И.
Истолковать такой трюизм:
Давным-давно уж Эрвин Роде
Истолковал дионисизм77.
С 1924 года Иванов больше не касается темы религии Диониса, но многие его работы последних лет «дионисичны» не только по духу. Так, в книге «Достоевский. Трагедия. Миф. Мистика» (1932) романы писателя представлены им как метаморфоза греческой трагедии.
Анализ культовой практики феномена дионисийства заставил Иванова согласиться с некоторыми идеями Ницше, но и еще больше разойтись с ним. Во-первых, он отмечает несомненную заслугу Ницше в том, что тот разрушил образ античности, идущий от Винкельмана — образ «благородной простоты и спокойного величия». Ницше обратил внимание на хтоническое начало культа Диониса, который возник сначала у вавилонян, — их оргии возвращали человека «на ступень тигра и обезьяны». Оттуда этот культ проник в архаическую Грецию. Среди исследователей, обративших на это внимание, он называет Гердера, Карла Мюллера, Велькера, Беттихера и Дж. Фрезера — автора книги «Золотая ветвь».
«Ницше возвратил миру Диониса: в этом было его посланничество и его пророческое безумие», — писал Иванов в статье «Ницше и Дионис». «Ницше был филолог, как определяет его Вл. Соловьев <…> Он должен был, вслед за горными путниками, совершить подъем, на котором мы застаем современное изучение греческого мифа. Нужно было, чтобы Германн раскрыл нам язык, Отфрид Мюллер — дух, жизнь — Август Бек, Вельнер — душу дионисийского народа». «Нужно было, чтобы будущий автор “Рождения трагедии” имел наставника Ричля и критически анатомировал Диогена Лаэртия или поэму о состязании Гомера 40 и Гесиода. Должно было ему… музыкально усвоить воспринятое Вагнером наследие Бетховена, его героический и трагический пафос». «И должно было также, чтобы… его стремление к ясности классической и пластической четкости закалилось в позитивном холоде научного духа времени»78.
Примечательно, что Вячеслав Иванов приводит этот солидный список «источников» Ницше и собственных собеседников в данном научном вопросе в статье, публикуемой в журнале «Весы» для широкой читательской аудитории «неспециалистов».
Немецкий философ для него всего лишь «пророк наполовину». Труд Ницше является эстетическим учением (об этом говорится уже на первых страницах работы «Рождение трагедии»). Для Иванова же — мистическим (он отмечает это в самом начале «Эллинской религии»).
Мистика для Иванова — диалог земного и небесного, божественного и человеческого, имманентного и трансцендентного. Дионис для него — символ внутреннего опыта. В первую очередь его интересует не обряд, а психологическое состояние, природа дионисийского экстаза, обеспечивающая необходимую мистическую связь. Экстаз первичен, а дионисийское «как» — есть «модель архаического божества вообще». В этом смысле «бог древнее своей истории, а жертва древнее бога»79.
Дионис — символ архаического божества. Дионисизм — символ в первую очередь мистических, во-вторых, культовых и догматических приемов всякой религии. На этой основе становится ясным вывод о том, что религия Диониса является эллинским ветхим заветом христианства.
Важное место в системе религиозно-философских взглядов Иванова занимает идея вечного возврата, которая в частности выражается в его представлениях о циклическом движении истории. Равновесие мужского «солнечного» и женского «энергийного» постоянно нарушается в сторону одностороннего развития первого начала (что выражается, например, в олимпийской эллинской религии, семитском монотеистическом аморфизме, европейском гуманизме, современном индивидуализме), которое подавляет двуединый мистически-диалогический синтез. Противодействовать этому может возрождение древнего экстатического оргиазма, живое проникновение в культ «страдающего бога». В историческом плане таким возрождением были — орфический дионисизм, возникновение трагедии, христианство.
Вячеслав Иванов выдвинул и обосновал несколько неоспоримых до сих пор гипотез: например, о том, что Афинские государственные обряды возникли в результате слияния дионисийского материкового культа 41 менад и прадионисийского островного (что совсем недавно было подтверждено археологическими данными).
Итак, первое — выяснение природы дионисийского экстаза, второе — исследование обряда, из которого позднее оформляется религиозный культ, быт и культура.
Экстазу, «правому безумию» посвящена большая часть «Эллинской религии». Отличительная черта дионисовых оргий — это совместное исступление. Этот культ требует общины, «кругового хора», «оргии». Исследование природы дионисийского очистительного оргиазма (т. е. исследование священного «как») есть учение Иванова о катарсисе.
Идеи Вячеслава Иванова отчасти перекликаются с идеями Фрейда из его известной работы «Тотем и табу». Различие заключается в том, что Фрейд опирается на физиологию и исследует человека как биологическое существо, Иванов сосредоточен на том мгновении, когда человек перестает им быть, и рассматривает катартическое переживание как форму упорядочения отношений animus с anima, а также человека с богами или надличностными силами. Данный тезис содержится и в его статье «Спорады», где речь идет о катарсисе как упорядочивании отношений Я с силами Над-Я, конфликтовавшими между собой. Это ведет человека к преодолению собственной индивидуации и правому восстановлению личности, избыванию «пути греха и возмездия» через смерть и воскресение.
Из беседы Вяч. Иванова с М. Волошиным: «Да, я признаю обезьяну. Обезьяна, а потом неожиданный подъем: утренняя заря, рай, Божественность человека, совершается единственное в истории: животное, охваченное безумием, обезьяна сошла с ума. Рождается высшее — трагедия. Надо, чтобы это было, так было (sic!)»80.
Об этом же он пишет и в «Эллинской религии». Человек — существо экстатическое — animal extaticum. «Экстаз — не только начало религии, но и начало человека: когда животное сошло с ума, оно стало человеком»81. Условием, обеспечивающим «правое безумие», является коллективность экстатического действия. «Умереть в духе вместе с трагическою жертвой, ликом умирающего Диониса, и воскреснуть в Дионисе воскресающем — в этом сущность дифирамбического очищения»82.
Катарсис у Иванова — это и «очищение», понятое в смысле «выздоровления», восстановления «целостно-бытийственного чувства», и чисто психологическое чувство — «радостный отдых», и отказ от самоутверждения, ведущий к полному преображению — «метанойя» (перемена, покаяние). Главный вопрос, который его волнует: «Должно ли смотреть на дионисийскую манию только как на патологический феномен 42 отдаленных веков, ныне, к счастью, уже не могущий вспыхнуть в нашем внутренне устроенном, упорядоченном мире? Или мы еще способны к этому заражению, к этому безумию, — и — если да — должно ли об этом печалиться или этому радоваться»83.
Религия Диониса есть религия страдания и смерти, это учение о двойственности всего сущего: жизни и смерти, жреца и жертвы, страдания и воскресения, уничтожения и восстановления. Действие трагедии аналогично дионисийскому безумию. Ее цель — «дионисийская кафартика»: «поднять изначальный (стихийно-музыкальный) экстаз на высоту его разрешения в “правильное”, здравое исступление, заставив дух “право безумствовать”»84.
Мысли Вячеслава Иванова о том, что искусство трагедии связано с очистительным ритуалом, а сама она является своего рода вариантом религиозного очищения для всех зрителей и участников представления, вполне традиционны и сопоставимы с аристотелевской теорией «очищения страстей». Сам Иванов видит в аристотелевском трагическом «очищении» реминисценцию ритуальных религиозных «очищений», хотя подчеркивает, что для Аристотеля это требование не мистическое, а эстетическое. Об этом он пишет в статье «Новые маски».
Для поэта «экстатическое» связано с категорией трагического, с разрешением конфликта греховного свободного действия. Это реализация конфликта между замкнутым единичным человеческим существованием и всеобщностью бытия. Развитие этого конфликта происходит по следующим стадиям: архаическое единство (включающее целостность человеческого сознания), целостность индивидуума (т. е. то единство, которое обеспечивает единство сакрального и обыденного), затем — свободная индивидуация, рождение множества, появление границы (рамы, рампы) между индивидуумами. Далее — борьба индивидуумов (между собой и против Абсолюта), что ведет к их уничтожению. И — через смерть — очищение страданием, уничтожение границы, катарсис, воскресение, богочеловеческое единство, соборность.
От размышлений о существе дионисийского экстаза Иванов переходит к исследованию природы художественного творчества. Творческий процесс создания трагедии есть мифотворческий процесс. Основной принцип мифотворчества — литургия повторения перводействия сотворения мира. Трагедия творится как художественное произведение, но и сам процесс творчества уже есть трагедия. Диалог художника и зрителя есть некое единство, заданное вертикальной осью: земное-небесное, обыденное-сакральное. Художник заканчивает воплощением в материи, зритель от него отправляется.
43 «Таинство есть видимое слово» (бл. Августин), в трагедии предвечное Слово являет себя во плоти (до действительного воплощения), действие и действо в их диалоге. Зритель (только зритель, не участник хорового действия) — плод индивидуации. Актер, художник, поэт через свое произведение побуждает его к снятию индивидуальных границ. Только наличие всех элементов, всех стадий развития трагического конфликта свидетельствует о подлинном мифотворческом искусстве трагедии и подлинном катарсисе.
Главный постулат, который выдвинут уже на первых страницах «Эллинской религии», трагедия — искусство «страдающего бога», художественное завершение идеи «божественного страдания». Иванов приводит обильные примеры конкретного проявления обрядового оргиазма. По широте охвата и объему исторического материала его исследование сопоставимо разве что со знаменитой книгой Д. Фрэзера «Золотая ветвь».
Обнаружив хтоническое начало в древней «доисторической архаике», Иванов высвечивает ее в более поздней «бессознательной», «ночной» жизни человечества. Его мифологические построения, заданные немецкой классической филологией от Мюллера до Ницше, стали достоянием науки XX века.
Исследование природы дионисийского экстаза ведется путем сравнительного анализа греческой мифологии различных исторических пластов. Каждый элемент мифа, перемещаясь в более ранний исторический контекст, сохраняет свои поздние значения. Контаминируя мифологемы-варианты, Иванов создает глубокое емкое «стереофоническое» мифосимволическое пространство. Таково, в частности, пространство его трагедий.
Возникновение трагедии как особого вида искусства в IV веке до н. э. связано с определенными обстоятельствами религиозной жизни эллинов. В VI в. до н. э. устанавливается и канонизируется мифологическое предание о Дионисе и о растерзании Диониса-Загревса титанами. Этот миф в пересказе Вячеслава Иванова звучит следующим образом:
Первоначально Дионис — Загревс или «Великий ловчий». Это имя хтонического божества, бога смерти.
«Еще ребенком он принимает от Зевса господство над миром. Но Гера злобится на сына и посылает загубить его диких Титанов. Они дарят ребенку символические игрушки — волчок, шар, пирамиду, между прочим, зеркало, чтобы отвлечь его внимание. Они вымазывают лица гипсом, чтобы быть неузнанными. Между тем как отрок любуется на свое отражение в зеркале, они нападают на него. Он ускользает из их 44 рук чрез последовательные превращения, но в образе быка все же делается их добычей. Титаны поглощают растерзанные части бога, только сердце его, спасенное Афиною Палладой, достается Зевсу, который его проглатывает: это росток будущего Диониса, долженствующего родиться от Семелы»85.
Семела — мать «второго» Диониса, дочь фиванского царя Казма. По наущению ревнивой Геры, Семела попросила Зевса явиться к ней во всем его великолепии, и тот невольно испепелил ее своими молниями. Зевс спас из огня своего сына Диониса и зашил его в бедро. В положенное время Дионис рождается из бедра Зевса и начинает свое шествие по миру, обучая людей виноградарству и виноделию и учреждая свой культ.
В шествии Диониса участвовали менады, сатиры, вакханки, бассариады с тирсами, увитыми плющом и опоясанные змеями. Охваченные священным безумием, они увлекали за собой толпы женщин и мужчин, пили кровь растерзанных диких зверей, вырывали с корнем деревья, высекали из земли своими тирсами молоко и мед. Дионис славился как Лиэй («освободитель»). Он рвет оковы обыденности, разрушает путы индивидуации и обособления, сметая все на своем пути.
Египетский страдающий и растерзанный Бог Озирис — архетип эллинского Диониса. Изида скитается по свету, собирая тело разорванного на части ее брата, мужа, сына Озириса. Миф о страдающем боге соединяется здесь с мифом о вселенской разлуке. Плодом же собственного эллинского мифотворчества Иванов называет придание страдающему богу сыновней ипостаси: Дионис — сын бога Зевса. С возникновением этого представления возникло и само имя бога.
По мифу орфиков Зевс испепелил Титанов за растерзание и пожрание Диониса. Человек, созданный из их пепла, двуприроден. Он потомок Титанов и бога Диониса.
И я, тень сна, Титанов буйных племя,
Их пепл живой —
Несу в груди божественное семя, —
Я, Матерь, твой!86
Еще одно отличие «дионисийских» идей Вячеслава Иванова от идей Ницше в том, что для Ницше Дионис не является «богом страдающим», что принципиально важно для Иванова. Для Ницше это всего лишь «вневременное начало духа».
Дионис — «бог страдающий» — отправная точка философско-эстетических рассуждений Иванова о существе трагедии — «Дионисова искусства».
45 Большую роль в античной мифологии играет мотив превращений. (Дионис — «бог великих превращений»). Для Вячеслава Иванова это знамения «эпифаний» многоликого бога, а категория превращаемости связана, с одной стороны, с категорией рассеяния, сокрытия (Дионис — «обманщик»), с другой — с категорией перехода одной формы природы в другую, слияния с ней. Для «дионисийского человека» нет граней между волей человека и природной стихией.
Таким образом, речь снова идет об архаической целостности мира и его восприятия, единстве «обозначающего» и «обозначаемого». Задача обряда — восстановление этой единой целостной системы, что ведет к «преображению», то есть к познанию мира в его сокровенной тайне.
Средством восстановления изначальной целостности была древняя религия с ее мистическими тайнами. Одним из древних мистических таинств была совместная трапеза с богами, причащение божественной плоти. Другим средством соединения с божественным началом был мистический брак. Но затем, отмечает Иванов, в орфической религии появляется идея внутреннего слияния с божеством, даруемая благодатью мистического экстаза, а не внешними обрядовыми средствами. Об этом, в частности, свидетельствует появившаяся в среде орфиков пословица: «Много тирсоносоцев, да мало вакхантов».
Суть дионисовой религии — «жертвенное служение силам мира загробного и половой оргиазм, — два противоположных полюса единого экстаза»87. Эти два противоположных полюса дионисовой религии соединяются в едином дионисовом обряде. Оргии с кровавыми жертвоприношениями и «восторги прекрасной чувственности», вакхическая вера в возрождение жизни. Это таинство любви и смерти. Главным и всеобщим для древнего религиозного миросозерцания является «мысль о коррелятивной связи между смертью и половой силой, о зависимости земного плодородия и чадородия от воль подземных»88. Воплотилась она, в частности, в служении богу Мейлихию (Молоху), подземному Зевсу, Афродите (Астарте).
В работе «О существе трагедии» (1912) поэт отмечает, что трагедия «по своей природе, происхождению и имени» — это видоизменение дионисийского богослужебного обряда. Существо трагедии — Дионисово таинство раздвоения в междоусобные энергии. Начало единства — это Аполлон — сила связующая и соединяющая, бог восхождения от раздельных форм к всеобъемлющей «верховной форме». Аполлон — это монада, соответствующая мужскому началу.
Дионис — символ разделения в едином, диада, женское начало в природе. Дионис — это бог женщин, предмет их безумия и жертва, их 46 дитя и жених. Своеобразными «масками» Диониса, эпифаниями «бога страдающего» являются для Вячеслава Иванова многие эллинские мифологические герои. В частности, Тантал и Прометей в качестве прообраза имеют для него тоже образ Диониса.
Существо трагедии в том, что это Дионисово таинство единства и его раздвоения в междоусобные энергии. В таинстве воссоединения жреца и жертвы — воссоединение единого первоначального бога. «Итак, вот она исконная диада религии Диониса: он — жертва, и он же жрец.
Но бог является при этом в двух разных ликах: один лик — он сам, как конкретная реальность мифа, или как предмет ясновидящего созерцания, или, наконец, как жертвенное животное, мистически пресуществляемое обрядовым действием в него самого; другой лик — его служитель и жертвоприноситель, или же супостат, объятый то вдохновением, то слепым безумием (подобно Титанам, растерзавшим божественного младенца) и часто представляющий собою постоянную ипостась того же Диониса…»89.
Иванов указывает на «женскую душу» трагедии. Другой лик по преимуществу — женский, наиболее религиозно-напряженным почитанием Диониса было служение менад. Изначальное жречество было женским, женская стихия — это стихия матери-Земли как Земли-колыбели и Земли-могилы. В «Эллинской религии страдающего бога» отмечается, что до культа бога была его жертва, до жертвы — поминальные тризны и обряд человеческого жертвоприношения.
Итак, не экстаз возник из культового обряда бога, а бог явился олицетворением экстаза. Дионис — символ определенного внутреннего опыта, открывающегося в разных религиях и культурах.
Рассмотрим теперь, какие же культовые обряды Иванов называет источниками возникновения театрального искусства.
Представление о сакральном, сверхчувственном начале появляется в эпоху первых погребений. Погребальный плач — одно из «приуготовлений трагедии». Среди других источников приводится целый комплекс дионисийских обрядов: это и ионийский островной дифирамб, и фракийский оргиастический охотничий культ, и аттические земледельческие праздники: «Устраивалась веселая и недлинная процессия; впереди несли амфору вина, за ней виноградную лозу; следовала коза, ведомая на жертву, за козой — корзина с фигами, и ход завершался торжественно воздвигнутым символом рождающей силы.
Замечательно, впрочем, что в мифах, связанных с этими днями сельских гуляний, продолжает звучать та же трагическая нота страдания и смерти»90.
47 Иванов приводит аттический миф об Икарии, который для него также является одним из многочисленных личин бога Диониса. Земледелец Икарий — родоначальник искусства виноделия. Пастухи, попробовавшие первый раз в жизни вина, впадают в буйство. Решив, что Икарий их отравил, они убивают его, убивая в его лице самого Диониса.
Дочь Икария Эригона повсюду ищет своего отца. В этом Вячеслав Иванов видит сходство с Изидой, ищущей тело Озириса. Найдя могилу Икария, она повесилась на дереве — «обычная черта женского дионисийского безумия»91. За это Дионис насылает на Аттику эпидемию самоубийства, но эпидемия прекращается после учреждения обряда «эоры». На ветви деревьев вешают гирлянды с фонариками, качающимися человеческими фигурками и масками. Все это сопровождается состязанием в плясках на винных мехах, намазанных оливковым маслом. «Обрядовая потеха давала повод к неудержимому веселью гуляющих, сценам народного юмора и комическим импровизациям и послужила, по мнению древних, первым толчком к развитию аттической сцены»92.
Архаическое божество является в маске мифологического героя, которую одевают все участники этого безумного маскарада. Обзор зимних дионисовых тризн превращается у Вячеслава Иванова в поэтическое описание всеобщего повторяющегося дионисового действа: «Все повторяют их и все слагается в своем пестром и неисчерпаемом многообразии в один бесконечный маскарад, где Дионис угадывается под вечно сменяющимися личинами — вечно единый, благодетельный и страшный, божественно всемогущий и победный; и вместе как бы ведущий ими же разнузданными губительными силами и направляющий их удар, то застигнутый, растерзанный или в безумии и бешенстве убитый, пожранный, или погребенный, и снова божественно-неистребимый, воскресший и возродившийся для богоявления, новой “эпифании”»93.
Обзор тризн и оргийных торжеств представлен «эпифанией» многоликого бога, единого вселенского маскарада с его идеей перевернутости мира, обмена ролями, двойниками, зеркальностью. Иванов цитирует особенно почитаемого им в это время философа — Владимира Соловьева: «Из смеха звонкого и из глухих рыданий созвучие вселенной создано»94. Отражение этого созвучия он видит в описываемых им празднествах, главной чертой которых было соединение трагической маски с комической. Двуликая Дионисова религия совмещает в себе «торжественный плач» и «вольный смех», жертву и пляску. «Комос» не менее мил богу в его сонме, чем сатир «Дифирамб».
Вакхические изображения встречаются на стенках гробниц. В древнейших тризнах элемент смеха и разгульного веселья был необходимою 48 частью похорон и поминок. В римских погребальных процессиях вместе с флейтистами, плакальщиками и колесницами, ведущими замаскированных людей в личинах предков покойника, участвовали плясуны и мимы, потешающие толпу. Они же следовали и за колесницей триумфатора. Первообраз триумфальной процессии — похоронная церемония.
В обряде погребальных тризн выделяются следующие культовые элементы: переодевание, грим, маски, маскарад. Опираясь на данные этнографии и археологии (в частности раскопки Шлимана), Иванов отмечает, что у древних народов существовал обычай погребения в масках, связанный с желанием задержать жизнь в погребенном, сохранить его для дальнейшей жизни. Маска — сохранение черт лица, а также и психической энергии (вместилищем которой, по их представлениям, является голова). «Ибо линии лица и в их отражении (в воде или зеркале), и в отображении (в изваянии и живописи) поглощают и удерживают часть душевной силы человека, выделившего из себя свой образ»95.
Приводя примеры конкретных древних погребений, в частности княжеских и царских, Иванов отмечает такие характерные черты обряда, как обожествление мертвого, придание его маске сходства с божеством. С другой стороны, маска с лица покойного возлагалась на живого.
«Ясно, что человек, принявший черты покойника, облекшийся в его образ, надевший на себя его личину, являлся носителем его души, присущей образу. Если он налагает на себя маску, снятую с лица умершего, на его лице лежавшую, его подлинное отпечатление, психическая и божественная потенция маски, несомненно, еще усиливается: она не только удерживает последнее дыхание жизни, но и вдохновляет им живого ее носителя до полного отождествления его с обожествленным умершим»96.
Погребальные маски на тризнах возлагались на лица живых, и они тем самым «проникались душой» умершего или, в определенном смысле, обожествлялись, «причащались» тайнам загробного мира и смерти. Иванов упоминает о мимах, надевающих маски покойных в похоронных процессиях. Он отмечает также присутствие в погребальных обрядах шуток, «буффонад с колесниц», порой и непристойного характера, которые затем повлияли на развитие аттической комедии.
Отсюда вывод: на древней тризне человек, надевший маску, был не только актер, как, например, в позднем Риме. Это был оргиаст, «одержимый душой или божественною силой покойника»97.
Иванов обращает внимание и на кровавый маскарад древнейших тризн, когда в жертву приносился пленник из вражеской земли в маске, который одновременно являлся и жертвой, и героем. Маска — обожествленная 49 голова дионисической жертвы и маска — покрытые гипсом лица Титанов.
Затем человеческое жертвоприношение облекается в формы «фиктивного действия», являющегося формой древнейшего маскарада. Архетипом этого маскарада является все тот же миф о растерзании Титанами бога Диониса. В историческую эпоху жертвенное служение, облеченное в изобразительные формы «фиктивного события», было зародышем трагедии. Трагедия родилась путем «отвлечения» культовой идеи от обрядовой практики тризн. Трагедия, как искусство, началась тогда, когда оргиастические жертвенные взывания превратились в экстатический дифирамб.
Главный вывод, который делает здесь Вячеслав Иванов: появление маски, присущей греческой трагедии, нельзя объяснить условиями античной сценической перспективы, то есть техникой театрального дела. Эллины нуждались в маске потому, что трагедия была священным обрядом — сакральным действием (как и комедия — «народный карнавал» с его ряжеными). Маска актера не отличается по существу от маски жреца и от маски бога, хранимой в святилище. Таким образом, первоначальный смысл трагического действия — жертвенный чин поминальной тризны.
Трагедия сопровождается «драмой сатиров» («satirykon drâma»). «Маска сохраняется, но кровавый трагизм уступает место фантастической игре и демоническому веселью одушевленных сил природы, пафос роковой гибели — пафосу пола и полового преследования. Эта смена, разрешающая напряжение и трепет близости судеб героических, была психологически подсказана бессознательною памятью такого же разрешения на стародавних оргиях смерти и страсти»98.
Особенность дионисических мифов в том, что они представляют оргийные празднества «уже данными», уже существующими с их богом. Тризна или празднество — это нечто исконное, нечто древнейшее, чем сам миф. «Наиболее раннее упоминание о Дионисе — речь Диомеда в “Илиаде”, где повествуется о нападении Ликурга на кормилиц Диониса и о бегстве бога к морю. Диомед говорит: “Они побросали тирсы”. Итак, это уже дионисический праздник»99.
В статье «О существе трагедии» внимание сосредоточено лишь на одном источнике возникновения трагедии — дифирамбе или хоровой песне (песне Топора, сопровождавшей убийство быка обоюдоострой секирой). Она представляла собой диалог между запевалой и хором и исполнялась сначала в честь бога, атрибутом которого был двойной топор.
50 У эллинов этот дифирамб исполнялся хором «козлов», то есть круговым хором в козлиных харях. В эпоху, когда исконные носительницы дионисийских вдохновений — менады были оттеснены мужскими служителями Диониса, он утратил связь с быком и топором.
«“Козлами” стали именоваться и мужские религиозные общины, коих назначение было славить Вакха подражательным воспроизведением его божественных дел, для чего было необходимо, чтобы один из участников выступал на середину круга и изображал самого Диониса <…> Хор в козлиных масках выработал “драму сатиров”, которая вобрала в свой состав все, что было в первоначальном дифирамбе неустроенного, импровизованного, разнузданного и резвого.
Все же героическое, похоронно-торжественное и плачевно-поминальное, высокое и важное стало достоянием того дифирамба — музыкального диалога между хором и протагонистом-героем, — откуда вышла трагедия»100.
В работе «Дионис и прадионисийство» дифирамбу уделено значительное место. Дифирамб называется здесь «лирической трагедией» до Феспида.
Первый эпиграфический источник о драматическом действии свидетельствует, что некий Феспид в 534 году до н. э. получил в награду козла за постановку драмы и исполнение в ней актерской роли. Иванов указывает на дифирамбы Бакхилида как образец подобного действия и предлагает реконструкцию их возможного исполнения (опираясь при этом лишь на структуру текста): Хор делился на два полухория, один протагонист — корифей народа — выступал, окруженный сонмом граждан, другой протагонист — царь — дружиной. Вступительные семь строк пели корифеи, остальное — полухория, попеременно.
В этой же работе Иванов отмечает, что не разделяет точку зрения Дитериха на происхождение трагедии из элевсинских мистерий. Он подчеркивает, что приписывает этим мистериям лишь определенное участие в образовании трагедии.
Трагедия сложилась в самом ядре всенародного дионисийского действия вне зависимости от храмового культа. Мистерия, возникшая до трагедии, существующее само по себе действо. Мистерии (или священнодействия) развиваются параллельно искусству трагедии — эта важная мысль повторяется в дальнейших рассуждениях о «соборном» театре.
Тем не менее, трагедия перенимает у мистериального культа некоторые черты и элементы. Например, в дионисийском обряде двойного топора употребляются котурны, а их употребление — сакральная особенность мистериальных богослужебных действ.
51 Помимо котурнов из области мистериального обряда в трагедию переходит специфическое облачение трагических актеров (во времена Эсхила «стола» — одежда элевсинских жрецов).
Наконец, трагедия обязана Элевсину сокровенным drômena, имеющим вид мистического плача (плод синкретического соединения культа Диониса и Деметры), которые изменяют строение хора и придают постановке «гиератические» возвышенные черты. Сама же аттическая трагедия не говорила о «деяниях и страстях» бога. «Религиозная сдержанность» эллинов предписывала трагедии не переступать пределов священной «золотой легенды» о героях. «Мистерия — богам, трагедия — героям».
Главным праздником в Афинах был праздник великих Дионисий в марте или начале апреля. На этом празднике на первое место выдвигается карнавал — уравнение всех в общей радости и дифирамб. Героическая трагедия заменяет обряд героического плача. Праздник отмечался в священном участке Диониса Элевферевса под южным обрывом Акрополя. Иванов называет историческую дату возникновения праздника — 60-е годы V века до н. э. и приводит описание развалин той арены, по которым исследователь Дерпфельд воссоздал облик древней сцены.
Опираясь на эти исследования, он делает следующие выводы о первоначальном облике античного театра: исконный театр — круглая площадка, предназначенная для танца. Там же пылал жертвенник Диониса. Из хора, исполнявшего дифирамб, выдвинулся солист — протагонист возникающей трагедии. Толпа, составляющая когда-то один огромный хор, «совокупно священнодействовавший», мало-помалу стала толпою зрителей. Этой толпе удобнее было расположиться по склонам холма, чтобы лучше видеть. С одной стороны круглой площадки нужно было раскинуть «палатку» или поставить временную деревянную постройку для переодевания: отсюда «сцена». По обеим сторонам ее оставлялись проходы для торжественного выступа или удаления хора; передняя часть ее служила декорацией. Снаружи к театру прилегали основания колоннады, предназначавшейся для отдыха публики. К ней одним углом прикасался древний храм Диониса.
Во многих работах Иванов указывает на две особенности трагедии. Во-первых, трагедия, т. е. обряд героического культа, характеризуется употреблением героической маски. Это гробовая маска далеких предков, героев национального эпоса.
Второй особенностью трагедии является почти полная физическая бездейственность декламирующих на котурнах лицедеев. Котурны, пришедшие из мистериального обряда, придают актерам сверхчеловеческий 52 рост и почти лишают возможности движения. Движения, т. е. действия, совершаются за сценой, о них извещает хор и вестник.
Главный вывод, который здесь сделан, — драма не действие так называемых действующих лиц (и она совсем не стремится к тому, что теперь понимается под сценическим действием), «drâma» — «действо» («drômenon») и «действователи» в нем те, кто его правят («drôsin»).
Но хотя Вячеслав Иванов и не выводит трагедию непосредственно из мистериального культа, весь ход его рассуждений подводит к мысли о том, что действо трагедии является своего рода мистериальным таинством. В самой идее маскарада таится мистерия жизни и смерти. Форма реализации мифа о Дионисе — мистерия умирания и воскресения возобновляется и в символике его трагедий.
В конце главы «Возникновение трагедии» Иванов приводит догадки своего ученика — студента Бакинского университета М. Альтмана о религиозной символике искусства трагедии. Хотя при этом он отмечает, что не берет на себя их защиту в целом, тем не менее заканчивает ими важную главу в своей книге о дионисийской религии, культе и трагедии.
В этих рассуждениях трагедия уподобляется мистерии нисхождения в Аид — мистерии, где мистами являются все (ибо перед лицом смерти все равны). Трехдневный период трагического действия, каждый из которых представляет собою идеальный день, соответствует трехдневной власти Аида над освободившимися из ее плена. Отсюда — «идеальный день» трагедии (другими словами — «единство времени»). Конец подземного дня отмечает драма сатиров — это переходная ступень из мира мертвых в мир живых, на которой герои предстают перед нами такими, какие они есть. «Единство места» — отражение представления о том, что орхестра — locus mysticus перед «вратами Аида».
Особое место занимает хор. «Хор — спасительное средостение между орхестрой и зрителями, ибо без него хрупкая душа эллинов разбилась бы о трагедию: он служит разрядителем трагедии <…> В драме нового времени античный хор был заменен шутом, но и античному хору предшествовал тот же шут в лице Дионисова Сатира»101.
Таким образом, из «сверх-исторического» исследования «возникновения трагедии» Вячеслава Иванова вытекает и его концепция дионисийского, «соборного» театра — это театр хорового мистериального трагедийного действа (или новая мистерия) и «драма сатиров» — карнавальное действие (народные, низовые театральные жанры).
53 2.2. ИДЕЯ «СОБОРНОГО ТЕАТРА» ИЛИ «ТЕАТР БУДУЩЕГО»
|
Как упоителен и жуток, Вяч. Иванов. |
Первая статья Вячеслава Иванова о театре — «Новые маски» (предисловие к драме Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Кольца») вышла в издательстве «Скорпион» в 1904 году и почти одновременно в журнале «Весы» (1904, № 7). Главный тезис, который Иванов выдвигает уже в начале статьи: «Старая сцена почти уже не заражает, и, главное, не преображает зрителя»102. Историческая задача «театра будущего», «грядущего и вожделенного» — «сковать звено, посредствующее между “Поэтом” и “Чернью”, и соединить толпу и отлученного от нее внутренней необходимостью художника в одном совместном праздновании и служений»103.
Эти темы поэт активно разрабатывал и в статьях «добашенного» периода (1904 – 1905): «Поэт и Чернь», «Копье Афины», «Ницше и Дионис», «Вагнер и Дионисово действо», «О Шиллере», и «послебашенного» московского: «О существе трагедии» (1912), «Эстетическая норма театра» (1914), «О действии и действе» (предисловие к трагедии «Прометей») (1919), «“Ревизор” Гоголя и комедия Аристофана» (1921).
На «башне» Иванов пытается решить и некоторые практические театральные вопросы (проект театра «Факелы», спектакль Мейерхольда «Поклонение кресту»), собирает у себя театральных людей. Но «театр настоящего», живой современный театральный процесс в его статьях этого времени никак не отражается. Иванов занят в это время преимущественно проблемами символизма, о театре он пишет единственную, но очень важную статью: «Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха. Театр будущего» (1906).
Взгляды поэта на «существо трагедии», на ее общие законы и задачи оставались неизменными. Менялось лишь отношение к тому, как и когда может быть осуществлен этот «театр будущего». Изменялся и стиль его работ: от образно-символического до научно-логического. Тем не менее (в отличие, например, от А. Белого или А. Блока) можно говорить о единстве его театрально-теоретических взглядов и о единой театральной «соборной» концепции.
54 В театральной теории Вячеслава Иванова, как в фокусе, собраны все его религиозно-философские, символические, мистические и социальные воззрения. Его исследование происхождения трагедии содержит важный вывод, который может быть отправной точкой для уяснения его театральной теории: трагедия, как жанр, рождается на рубеже VI – V вв. до н. э. в процессе отделения от ритуала, то есть в эпоху распада целостного мифологического сознания, когда «действо в личинах» перестает быть «самим переживанием инобытия»104.
Символический образ этого распада — раздвоение первоначального единства на междоусобные энергии. Это раздвоение — антиномические ипостаси «страдающего бога», жреца и жертвы — исконная диада религии Диониса. Вторая ипостась, другой лик — «преимущественно женский» (служение менад — самый древний дионисийский пласт). Поэтому предпочтительнее изображение в трагедии женского характера.
Трагедия как искусство начинается с утраты сакрального контакта, присутствующего в ритуале. Она все дальше удалялась от своего «дионисийского первообраза», но это и сделало ее искусством. Это оформление трагедии в вид искусства Иванов называет проникновением в нее аполлонийского начала. «Когда исключительно царил в ней Дионис, искусством она не была и не могла развиваться в формах художественных»105.
Но хотя трагедия и не является больше ритуалом в чистом виде, театр все же «святилище Диониса», а драматическое представление сохраняет особенности дионисийского праздника, литургического служения. Соединительным и очистительным таинством делает трагедию катартическое действие. Без этого действия театр для древнего эллина обращался в драматизированный эпос.
Катарсис, в первую очередь, — способ общения микрокосма и макрокосма, попытка восстановить сакральный контакт. Но даже при самом удачном осуществлении этой попытки (например, у Эсхила), контакт будет неполным, иначе трагедия перестанет быть художеством. Иванов делает вывод, что сценическое искусство не вмещается целиком в эстетике, как и не отождествляется полностью с ритуалом, и Аристотель, рационализируя катарсис, строит весьма одностороннюю эстетическую теорию.
Аристотелевская теория драмы как мимезиса — подражания действию возникла в эпоху, «когда присутствующий при действии из причастника Дионисовых таинств превращается в простого зрителя»106. Это теория театра с четкой гранью между актером и зрителем, театра — плоской живописи, картины, отделенной рамой. Это теория театра-зеркала. Отношение актера и зрителя в нем строится на принципе разделенности.
55 Миметический театр Аристотеля породил театр разобщения и углубляющейся индивидуации, театр обособленной, уединившейся личности. Маска актера (синоним индивидуации) «уплотняется», становится «непрозрачной», сгущается в характер.
Маска, архетипом которой является погребальный образ, — символ смерти. Этот символ индивидуации — дьявольская личина, мешает человеку раскрыть его божественный прообраз. Маска в теории театра Иванова — чисто внешняя психологическая характеристика персонажа, застывшая форма без содержания, непросветленная светом божественного дионисийского порыва. «Первородный грех» воплощения духа в материи — отъединение — первый шаг к развоплощению, небытию. Задача трагедии — подтолкнуть зрителя на другой путь — собирания мира из осколков.
Устремленность к архаическим формам жизни и искусства — теургическая концепция Иванова, которая в его символах обозначена как воскресение Диониса.
Архетип поминального плача обряда похоронной тризны — душа, пребывающая в тоске вечного разлучения, утратившая бога, принесшая его (и себя) в жертву. Через жертву происходит обретение первоначальной целостности.
Дионис, дионисийское начало — диада — символ множества. Аполлон — начало единства. Его символом является монада. Монада — мужское начало, диада — женское. Трагедия — искусство, посвященное раскрытию диады. Ее цель — показать синтез тезы и антитезы — дионисийского и аполлонийского начала, но диада при этом не переходит в триаду. Цель трагедии — в «снятии» или «упразднении» диады.
С распадом архаического единства человек впервые осознал себя как субъект. С этих пор его удел — постоянная внутренняя борьба, и принцип диады выражается в каждой человеческой личности. Иными словами, театр как искусство рождается тогда, когда обряд получает субъективное, индивидуально-психологическое содержание.
Бытие личности таит в себе изначальную двойственность. Эта двойственность в трагедии раскрывается как «внутренняя полнота». Этот «божественный избыток» растет и переполняет человека, и внутренние энергии облекаются «в лики разделения и раздора».
Таким образом, трагедия осуществляется в душе не ущербной, а переполненной, преизбыточной. И поскольку трагедия — действо коллективное, хоровое, принцип диады осуществляется в ней как принцип междоусобия в собирательном единстве. Иванов приводит обширные примеры раскрытия диады в античных трагедиях.
56 «Излюбленными темами трагедии становятся распри между детьми и родителями (Электра, матереубийство Ореста; проклятие Эдипа; сюда же относятся детоубийства, такие как трапеза Фиеста, безумие Геракла, преступления Медеи, заклание Ифигении), между братьями (Этеокл и Полиник), между супругами (Клитемнестра и Агамемнон, Геракл и Дианира, Данаиды) <…>.
Трагедия обогащается мотивом агонистическим: мужской герой противопоставляется противнику, похожему на его двойник (Этеокл и Полиник) или столь равному ему по силе, что исход поединка долго остается нерешенным (Прометей и Зевс). В исключительных случаях принцип диады раскрывается в судьбе героя-мужа путем не раздвоения, а как бы удвоения его нравственного существа: ослепленный самодовольством и всею внешней прелестью очей, Эдип, прозревая, видит в зеркале правды — другого, подлинного Эдипа.
По мере того, как мужской тип, отдаляясь от своего дионисийского прообраза, начинал количественно преобладать в трагедии <…> — начало диады создавало в искусстве ряд внешних средств для своего раскрытия, но и в этом более внешнем истолковании не утрачивало своего магического действия на душу зрителя. Тайна этого обаяния крылась в унаследованном из глубин дионисийского культа ужасе при виде восстающих друга на друга двойников разделившегося в себе Диониса — (Дионис и Ликург)»107.
Идея сотворения бога, собирания его из осколков совпадает с идеей обнаружения его в себе. Его символ — Дионис, существующий как множество, архетип соборности.
Главное в театральном искусстве — его соборный характер. Иванов делает вывод: сценическое искусство является, во-первых, действием «сонмищным», хоровым, общественным, соборным. Во-вторых, это искусство, развивающееся во времени (определение этому искусству — действо — «драма»), действенная форма воплощается в «героической личности», которая действует на преобразуемую стихию (хор), а приятие этой стихией его действия или сопротивление составляет содержание действия. Таким образом, драма — героическое действо.
Третьей особенностью сценического искусства Иванов называет миметизм. Это «единственный путь и способ превращения людского сонма в художественное создание. При устранении миметизма действо перестает быть родом искусства и становится событием самой действительности»108.
Кризис театра, утверждает Иванов, связан с утратой его соборного начала. Это кризис хора. Хор в своем историческом развитии проходит 57 три стадии: до отделения трагедии от ритуального богослужебного обряда хор — единое и нераздельное собрание, в котором каждый является и зрителем, и участником. Трагедия при этом еще не выделилась в самостоятельное искусство. Затем, на второй стадии, в античном театре, хор, формально находящийся на сцене, знаменует соборность как идеальную предпосылку действия, но подлинное, хоровое соборное начало осуществляется согласием и единочувствием сцены и зала.
При этом Иванов разделяет театральное действие (трехсоставное: хор, герой, миметизм) и мистериальное действо (единое, нераздельное), в котором соборное начало присутствует непосредственно, «в жизни». Оно сохраняется в едином сознании средневекового человека. Участник средневекового мистериального действа был способен пережить мистическое событие в абсолютном, неподвижном времени. К такому же роду сакрального действа Иванов приравнивает религиозную драму Кальдерона, рассчитанную «на толпу, согретую испанским католическим энтузиазмом»109.
В статье «Эстетическая норма театра» Иванов дает «классическое» определение «соборного театра»: «Соборность осуществляется в театре не тогда, когда зритель срастается в своем сочувствии с героем и как бы начинает жить под его личиной, но когда он затеривается в единомысленном множестве, и все множество единым целостным сознанием переживает подвиг героя, как имманентный акт в его трансцендентном выявлении»110.
Третья стадия — театр эпохи нового времени — эпохи индивидуализма, проникнутой духом безверия, чувством абсолютной человеческой свободы и полного одиночества. В театре на первый план выдвигается герой, в нем практически полностью угасает хоровое начало.
Начиная с Шекспира, театр отказывается от внутренней соборности, «идеальное множество» представляет лишь сонм лицедеев, отделенных от зрителей невидимой перегородкой. Но, тем не менее, театральное искусство, являющееся соборным изначально, по своему определению, не может до конца погасить это соборное начало, которое прорывается порой через самые непроницаемые завесы. Это происходит тогда, «когда сценическому действию удается вызвать единое у всех зрителей высокое одушевление», когда «саможизненное действие» порождает в душах «событие, внутренно их определяющее, быть может, навсегда»111.
Соборность осуществляется в душе каждого зрителя, производя очищающее действие (катарсис), подлинное перерождение, перемену, переворот (метанойя), что и есть «истинное задание» театра. «Это укрепительное 58 и целостно-бытийственное чувство, воссоединяющее нас с корнями бытия и расширяющее нашу самость до пределов всечеловеческого и вселенского сочувствия, целительно восстанавливающее наше в гармонии со всем и во имя всего»112.
Кризис индивидуализма отражается в диалектике взаимоотношений героя и хора, это определяет смену театральных типов — «театра художественно оформленной толпы» и «театра личности». Единство и равновесие этих двух начал существовало лишь при Эсхиле, Софокле и Аристофане. В современном же театре мы видим «лишь миражные отражения трагических жестов в воздушной зеркальности»113.
Выводы Иванова о различных стадиях развития хорового начала связаны с его размышлениями о «кризисе индивидуализма», разрыве между «Поэтом» и «Чернью», который преодолевается в соборном теургическом действе. К этому же кругу идей относится его определение четырех типов искусства (всенародное, демотическое, интимное, келейное) и деление эпох на динамические и статические.
Статическая эпоха — это эпоха соборного сознания, в ней субъект не осознает себя субъектом, а растворяется в народе, множестве, объекте. Искусство этой эпохи воистину соборное и всенародное. Всенародными произведениями искусства Иванов считал Девятую симфонию Бетховена и «Божественную комедию» Данте.
Динамические эпохи — это эпохи развивающегося индивидуального начала. Искусство этих эпох — демотическое, интимное и келейное. Искусство, в котором художник осознает себя как субъект, но предметом своего искусства делает не свои субъективные переживания, а всеобщее, соборное, объективное, является для Иванова демотическим. К произведениям такого рода он относит романы Достоевского, «Евгения Онегина» Пушкина, «Дон Кихота» Сервантеса.
Если цель художника — идеальное раскрытие своего внутреннего «Я», действительность в таком искусстве является маской самого творца. Такое искусство является интимным. Но если художник подчиняет самопроизвольный почин своей личности надличностному духовному началу, его искусство становится келейным. Соборное искусство в его чистом «первозданном» виде есть искусство всенародное, но и искусство келейное также является духовно-действенным, «прозрачным».
Упадок сценического искусства связан с угасанием хорового начала, а также с подменой героического действа «страдательно-лирическим».
Метод сценического воплощения — миметизм зависит от качества взаимодействия героического и хорового начал. «Его облагораживает 59 творческая идеализация, вносимая в подражание, — обнаружение в миметически воспроизводимом его высшей идеи (котурн), или же глубины ее искажения (комический шарж)»114. Миметизм определяет художественные жанры.
Миметизм Эсхила и средневековых мистерий Иванов называет иконографическим, миметизм Софокла и Шекспира — типическим, Аристофана — фантастическим, Островского — бытовым, Чехова — натуралистическим. Все это «великое и малое» подражание по-своему «творит и преемственно продолжает театр, но уже не театр такое действие, где нет места миметизму»115.
«Крепкий миметизм», по выражению Иванова, уже свидетельствует о наличности коллектива, взаимодействии хора и героя. И в этом удача чеховских постановок, хотя сами по себе пьесы Чехова из-за слабости изображенного в них героического почина внушают сомнение: «не распылено ли в них само общественное бытие до невозможности сценического воспроизведения бессвязных осколков распадающейся жизни»116.
Иванов пишет об этом в статье «Эстетическая норма театра». Очевидно, что речь идет о чеховских постановках Московского Художественного театра, хотя в статье «О проблеме театра» (которую он переделал для сборника «Борозды и межи» (1916) в «Экскурс: о кризисе театра») поэт критикует психологический театр, вероятно, современные постановки Художественного театра, которые подавляют живую энергию сцены, «развоплощая» зрителя в субъективном переживании происходящего на сцене. Здесь же Иванов высказывает отрицательное отношение к условному театру (возможно, поискам Мейерхольда), в котором театр как бы договаривается со зрителем об условиях сценической игры, проявляя неподлинность и неестественность сценических отношений.
Говоря о миметизме как о единственном способе и пути художественного создания, Иванов касается психологической загадки лицедейства. «Когда маска стала обрядовым ознаменованием перевоплощения, родился лицедей — то загадочное существо, каким он остается и поныне, — существо подвижного и произвольного самосознания и самоопределения»117.
Для актера-лицедея нет другого пути, кроме как, «убедив человека стать или прикинуться иным, чем каков он бывает в повседневной жизни, изменить свой облик и обычай, забыть на время собственное имя и как бы подменить самое душу чужою душой»118.
Архетипом актерского перевоплощения является дионисийское растворение единого во множестве (Дионис — бог превращений). Но и актерское искусство сделалось художеством, и перевоплощение «ремесленников 60 Диониса» в ипостась единого бога также не является полным отождествлением, пресуществлением, событием самой действительности.
Для традиционного актерского перевоплощения необходима «аполлонийская преграда» в душе актера — «этого загадочного существа, одновременно сливающегося со своей маской и ею же закрытого, убереженного в своей личной индивидуальности, в своем частном сознании, от трагических грез, направленных на него, как на громоотвод»119. Действо, разыгрываемое актерами, составляет «душевное событие» не для актеров, а для зрителей, душа зрителя должна быть «расплавлена и переплавлена» его игрой.
При этом Иванов предостерегает практиков сцены против увлечения экспериментами над психологией воспринимающих сценическое произведение, против стремления «развоплотить» зрителя. «Новейшие притязания сцены “развоплотить” (слово на ответственности теософов!) толпу и как бы поглотить ее в иллюзии единого действия — последний шаг в развитии зрелища и закономерно вызывают протест живых энергий театрального коллектива. Еще одна ступень в напряжении этого магизма — и наступит развал, или же — истерика»120.
Иванов говорит о раздвоенности зрительского сознания в современном театре, которое уже не может и не должно быть полностью упразднено. Театральный зритель — не сопричастник религиозной мистерии и «постулат умерщвления всякой личной реакции», а также «полное обезличение воспринимающего» в театре вряд ли могут быть оправданы.
Трагедия — лишь символическое уподобление мифотворческому мистериальному действу. Но в народной («карнавальной») культуре, где не существует актерского перевоплощения и миметического уподобления, происходит снятие всяческих границ и упразднение зеркальности. Контакт в таком диалоге становится в этом смысле сакральным. Из этой «карнавализации» театра и жизни возникла аттическая комедия.
В статье «“Ревизор” Гоголя и комедия Аристофана» Иванов отмечает, что аттическая комедия родилась из «карнавального обычая потешных музыкально-декламационных выступлений перед собравшимся в театре народом с вольными шутками и насмешливым, порою издевательским зубоскальством над ним <…>.
Это прямое обращение к народу, именовавшееся “парабазою”, составляет исторически-первоначальное ядро комедии»121.
В традиционной аттической комедии существовала так называемая парабаза, имеющая фарсовый сюжет весьма вольного, порой непристойного содержания. Ее сюжет обычно составляла ссора, драка и ругань двух сторон. Но в какое-то время комическое действо внезапно 61 прерывалось, «актеры неожиданно сбрасывали свои соответствующие ролям смехотворные личины и, вместе с хором, перестроившим свои ряды, открывали под звуки флейт воинственное наступление на первые ряды зрителей. В ритме военного марша они вплотную надвигались на них и бросали присутствующим в лицо обжигающие стихи ругательной парабазы»122. Отражение этой парабазы аттической комедии — в выпаде исступленного городничего в гоголевском «Ревизоре».
От выводов об «эстетической норме» соборного театрального действия Вячеслав Иванов переходит к концепции «театра будущего». Он начинает обращаться к этой теме уже в статьях 1904 – 1905 годов.
Особое внимание в этих работах уделяется мифотворческому театру Вагнера. Иванов называет Вагнера продолжателем дела Бетховена и предтечей музыкального гения Скрябина. Музыка Бетховена являет образ героя и его героическую волю, провозглашает соборное хоровое начало. Девятая симфония Бетховена — призыв ко вселенскому хороводу «вольности и радости».
Ту же устремленность поэт отмечает и в творчестве Скрябина. Бетховен, Вагнер, Скрябин указали пути для будущего «всенародного искусства». Они стремились выразить главную задачу трагедии, которая рождена из духа музыки: соборность должна реализоваться в искусстве, а искусство стать событием жизни.
Иванов отводит Вагнеру место между Бетховеном и Скрябиным. Очевидно, что идеи и устремления вагнеровского мифологического театра перекликаются с его театральной концепцией. Вагнер обращается к античной трагедии, немецкой романтической традиции и симфонизму Бетховена. Контаминация различных мифологических сюжетов в его музыкальной драме предстает как многообразие воплощения трагедии человеческого бытия.
Каждое произведение Вагнера таит в себе множество смыслов — от реально-бытового до мистически-религиозного. Он обнаруживает универсальность мифа на всех его уровнях, что направлено, в конечном счете, к глобальной цели — заставить зрителя-соучастника драмы переживать, размышлять, «священнодействовать». Все эти устремления необыкновенно близки творческим поискам Вячеслава Иванова, для которого характерно не реконструктивное и не стилизаторское воспроизведение античной, средневековой, романтической традиции, а проникновение в духовную, мистическую, неуловимую ткань прошлого.
Сближение театрального действия с ритуалом у Вагнера происходит благодаря невероятному усилению воздействия музыки. Многослойная причудливость мифа, принимающая многообразные формы — 62 от притчи до психологической драмы, вовлекает слушателя в процесс додумывания, фантазирования, истолкования, осуществляя тем самым принцип вовлеченности в творческое священнодействие.
Поиски сценического воспроизведения обряда и мифа привели к отвержению наличных средств современного театра и поискам нового театрального языка. Над постановками произведений Вагнера работали Крэг, Мейерхольд, Аппиа, Фукс. Широкий диапазон театральных исканий развивал идеи вагнеровской театральной теории.
Синтез Вагнера, по мнению Вячеслава Иванова, пока еще является неполным, в его театре еще не переброшен «мост между сценой и зрителем», мост «через полость невидимого оркестра из царства Аполлоновых снов в область Диониса»123.
Недостаток вагнеровской музыкальной синтетической драмы, считает поэт, — в отсутствии хора и пляски, а также — в отсутствии прямой речи трагика. Здесь Иванов формулирует свое видение «театра будущего»: это театр синтетической драмы. Это практическое соединение всех видов искусств в едином действии, в котором непосредственный почин действия рождается из оркестровой симфонии. Кроме того, необходимо наличие «двойственного» хора — «хора малого, непосредственно связанного с драмой, и хора расширенного, хора-общины»124. В центре партера, вместо кресел, должна быть круглая орхестра для танца и песнопений хора.
Над своими теоретическими построениями Иванов воздвигает надстройку — возможность конкретного практического воплощения. При этом он возражает против эксперимента, возведенного в самоцель. В статье «Экскурс: о кризисе театра» Иванов выступает против бездумного художественного экспериментаторства, игры художественными приемами без «культурно-исторического» переворота, обновления драматического искусства. «Либерализм форм — только либерализм — не отвечает ожиданиям, скорее — обманывает ожидания, и более благодарна толпа охранителям стародавнего предания формы, если провидит за ней веяние животворящего духа»125.
В статье «Предчувствия и предвестия» говорится о необходимости выработки новых форм, «внутренне способных нести динамическую энергию будущего театра». Настаивая на разрушении рампы, поэт подчеркивает, что речь, в первую очередь, идет о разрушении «внутреннего барьера». Этого можно достигнуть и в реалистическом театре, полном скрытых внутренних динамических энергий.
Цель зрелища не столько эстетическая, сколько психологическая: «потребность сгустить всеми переживаемое внутреннее событие — 63 “жизнь”; ужаснуться, разглядев и узнав собственный двойник, бросить факел в черную пропасть, зияющую под ногами у всех, чтобы осветить беглым лучом ее бездонную неизмеримость. Но это уже дионисийский трепет и “упоение на краю бездны мрачной”»126.
В работах раннего периода Иванов не углубляется в философское обоснование проблемы синтеза искусств и говорит, в основном, лишь о совмещении, соединении музыки, пения, пляски и драмы в одном сценическом произведении. В статьях 1916 – 1919 годов (например, «Чурлянис и проблема синтеза искусств») он выступает против механистического подхода к данной проблеме.
Воистину синтетично для него символическое искусство, и высшим примером такого синтеза поэт называет синтез храмового действа. «В богослужении вдохновенно и дружно сплетались Музы в согласный хор, и с незапамятных времен того “синкретического действа”, в котором Александр Веселовский усматривал колыбель искусств, впоследствии разделившихся: драмы, лирики, эпоса, орхестрики и музыки, — естественно и вольно осуществился искомый нами с такою рационалистическою надуманностью синтез. Что этот синтез может быть только литургическим, понимали и творец действа о Парсифале, и Скрябин»127.
Идеи Вячеслава Иванова о синтезе искусств перекликаются с идеями работ о. П. Флоренского «Храмовое действо как синтез искусств», В. В. Кандинского «О духовном в искусстве», с замыслом «Мировой Мистерии» Скрябина.
Поэт ценил не философскую доктрину Скрябина, а его музыкальное творчество. Особенно он расходился с ним в идее спасительной роли церкви, к которой Скрябин был совершенно равнодушен, но которую никогда не отрицал Иванов.
Скрябин доводит до логического конца устремления вагнеровского мифологического театра, его «мистерия» была призвана объединить все человечество для того, чтобы искупить «первородный грех» отъединения вселенской жертвой, гибелью всего человечества. Размышления Иванова о разграничении мистериального и театрального действования не могли не привести его к выводу, что, не осуществимая никакими театральными средствами, подобного рода мистерия является всего лишь грандиозным философско-художественным символом.
В докладе 1915 года «Взгляд Скрябина на искусство» Иванов отмечает: «Теоретические положения его о соборности и хоровом действе проникнуты были пафосом мистического реализма и отличались от моих чаяний, по существу, только тем, что они были для него еще и непосредственными практическими заданиями»128.
64 Иванов и Скрябин познакомились в 1909 году в редакции журнала «Аполлон» на вечере, устроенном по случаю премьеры «Поэмы экстаза». Дружеское сближение произошло в 1913 году. Не без влияния поэта грандиозная несбыточная идея «Мистерии» переросла в более реальный план создания «Предварительного действа». В работе над его словесной частью Скрябин консультировался с Ивановым по вопросам поэтической лексики и стихосложения. Но и общая поэтическо-философская концепция «Действа» несла на себе отпечаток ивановского символизма (так, например, в тексте «Действа» возникает символический образ «прозрачности»). Творчеству Скрябина поэт посвятил две статьи: «Взгляд Скрябина на искусство», «Скрябин и дух революции», несколько стихотворений и неопубликованную книгу «Скрябин».
В размышлениях поэта можно выделить две главные мысли. Во-первых, Скрябин — художник, который приблизился к заповедным граням искусства, его цель выше всякого искусства, это цель литургическая и сакраментальная. Это чудо, которое должно родиться в «хоровой соборности мистерии и стать душою нового, лучшего века»129. Примечательно, что эти строки пишутся в 1915 году, в разгар Мировой войны.
Во-вторых, Скрябин — художник-мистик («художник-герой» в терминах Иванова), жизненный и художественный путь которого является мистерией духа — единственно возможным реальным воплощением великой Мистерии.
В работе о взглядах Скрябина на искусство Иванов повторяет еще раз свою концепцию отделения искусства от сакральных корней.
Это отделение было связано с универсальным мировым переворотом. «До конца V века до Р. Х. эллинское искусство в целом было погружено в религию; она обращалась в нем, как кровь, и жила, как душа в теле»130. На излете средневековья открытие Коперника разрушило антропоцентрические представления: человек отныне не наследник Творца и не преемник «всематери-природы». Следующая ступень — переворот Канта: мир — только мое представление. Искусство начинает «пребывать в стенах человеческого переживания». Затем, в среде йенских романтиков возрождается вера в теургическую силу искусства. Эту веру и унаследовал, как считает Иванов, Скрябин.
Это включение Скрябина в схему развития мира и искусства — «цепь бытия» подталкивает нас к выводу (который, следует заметить, напрямую Иванов не делает) — творчество Скрябина и призвано осуществить чаемый соборный синтез. Символом того, что Скрябин все же осуществил этот мистериальный синтез, для Иванова является смерть художника — его жертвенное действо. «В его личной жизни это таинственное 65 воссоединение свершилось: то была смерть, в которой я вижу его высокое посвящение»131.
Поэт определяет искусство Скрябина как «мистический реализм». Что из себя представляет мистическое реалистическое действо Скрябина, «соборность» в непосредственно-конкретном воплощении он описывает в заключительной части своего доклада. Это интеграция, собирание «разрозненного состава в одно целое, чистым и исключительным синтетизмом»132.
В партитуре «Прометея» у Скрябина на каждой странице есть цветовая строка для «мелодии цвета». Синтетичен принцип скрябинской гармонии — замыкания мелодического ряда звуков в одно созвучие. Для создания полиритмической части «Предварительного действа» Скрябин пользуется стихотворной техникой дифирамба, что согласует словесную инструментовку с оркестровой. Местность, на которой должна совершаться будущая мистерия, должна стать также органической частью великого целого, «отменяющего великий раскол между искусством и природой»133. И, конечно, главное действующее лицо — хор, собранный из неофитов и «мистагогически воспитанный его обрядом»134.
Следует отметить, что Иванов описал здесь идеи Скрябина, а не свои собственные (хотя, очевидно, ему близкие) «театра будущего» — театра синтетического музыкально-драматического действия.
Возможно ли реальное осуществление такого действия? Поэт отвечает на этот вопрос в докладе «Скрябин и дух революции» (доклад прочитан несколько раз в 1917 году, опубликован в 1918-м). Сама революция, пишет здесь Иванов, — мистериальный крестный путь, начало грядущего воскресения, воссоединения, соборности. Скрябина он называет одним из ее духовных виновников. Революция — первые такты ненаписанной «Мистерии».
Насколько прав был Иванов, и когда же, наконец, наступит «лазурная соборность» — тема отдельного разговора. Отметим лишь то, как сплетены здесь в единый клубок все нити его основных идей, как почти неуловим переход от эстетической концепции к религиозно-философской и историософской, от рассуждений о театральном искусстве и мистериальном действе к мистерии жизни.
На эту особенность поэта указал Г. В. Обатнин в работе «К структуре мировоззрения Вяч. Иванова в эпоху первой русской революции». «Идеи разных видов накладываются, интерферируют, сосуществуют в самых различных областях мысли… Каждая идея, переходя из текста в текст (что дает возможность рассматривать их как единый текст), выступает 66 в самых различных смысловых контекстах. При этом она несет, “помнит” свое концептуально-контекстное значение.
Иначе говоря, общие идеи в системе взглядов Вяч. Иванова начинают функционировать как мотивные структуры, своеобразно аккумулируя и сплавляя смыслы. В каждом отдельном они имеют свое собственное значение, а взятые вне текста становятся символами, “суммирующими” смыслы. В таком виде они легко переходят в поэтическое творчество, создавая его общепризнанный идеологизм… В идеале каждый такой “символ — категория” должен получить открытый класс значений… Это образует поразительную целостность творчества Иванова»135.
В этом же заключается причина и того, что, вырванные из контекста всей системы, отдельные идеи поэта приобретают подчас двусмысленное значение.
Сам же Иванов достаточно спокойно относился к возможному слишком ревностному практическому воплощению некоторых его идей. «Что же до злоупотреблений принципом хора и всяческих беснований и корч, дьявол имеет, правда, обыкновение пародировать сущее, отражая его, как небытие, в своем искажающем зеркале, но он не мастер в творчестве сущностей: я хочу сказать, что хоровое действо не может возникнуть как событие демонического самоутверждения коллективной души; а подделку всегда легко различить»136.
Приведенная цитата из статьи Иванова «Экскурс: эстетика и исповедание» представляет собой ответ Андрею Белому, который, как известно, выражал сомнения в том, что призыв к соборному действу будет правильно понят современниками. «Из вышеизложенного следует, — продолжает Иванов, — что мой критик ошибается, думая, что я “приурочиваю момент перехода искусства в религию” к “моменту реформы театра и преобразования драмы”, если он предполагает, будто по моей мысли внешней перемены достаточно для произведения внутреннего действия. Если театр воистину изменится так, как я это предвижу, то это изменение будет показателем глубокого внутреннего события, совершившегося в сердцах»137.
Выдвигая постулат «всенародности» искусства, Иванов вступает в противоречие с собственной концепцией «келейного» искусства, не имеющего ничего общего с просветительскими задачами поучительно-развлекательного толка. В рассуждениях поэта проскальзывает утопизм, когда он начинает надеяться на возвращение к архаическому целостному мифологическому сознанию, в котором нераздельно слитые понятия Красоты, Истины и Добра помогут творить большое всенародное искусство.
67 Поэт разделяет точку зрения Вагнера о том, что задача художника творить «артистическое человечество», «творить человека-артиста». Об этом он пишет в работе «Предисловие к книге Р. Роллана “Народный театр”». Статья была написана в 1919 году, в период работы в Театральном Отделе Наркомпроса.
Согласно Р. Роллану, радость, бодрость и знание — три условия народного театра. Для Иванова такой подход изначально является ограниченным. Порыв к творчеству и жажда эстетического преображения связаны для него, прежде всего, с задачей духовного воспитания народа-художника. Этот круг идей поэта связан также с его постоянной художнической жаждой театрализации жизни. Неслучайно многие современники отмечали страсть поэта к театральной игре, театральному преображению действительности. Вера в великую силу театра подталкивала Иванова к попыткам практического осуществления некоторых идей, многие из которых оказались невыполнимыми.
2.3. ОТ «ТЕАТРА БУДУЩЕГО» К ТЕАТРУ НАСТОЯЩЕГО. МИФОТВОРЧЕСТВО ИЛИ ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ?
|
Но вы, которым светит Лик Вяч. Иванов. |
В письме к Лидии Дмитриевне Зиновьевой-Аннибал от 24/16 апреля 1903 года Вячеслав Иванов сообщает: «получил… антропологическое одобрение своей гипотезе о происхождении масок из погребальных»138. В это время он готовит к печати свое исследование о религии Диониса. Концепция мифотворческого теургического действия вызревает у него параллельно с работой над этим «метаисторическим» исследованием.
Чуть раньше в другом письме поэт отметил еще одну важную идею своего исследования, которую он будет развивать в дальнейшем. Это выводы об архетипах драматических жанров: «Трагедия возникла из преследования и убиения человеческой жертвы. Комедия из боя на смерть обреченных между собой» (Письмо к Зиновьевой-Аннибал от 5/20 марта 1902 года)139.
На рубеже веков Иванов начинает всерьез размышлять не только о театре прошлого и будущего. В поэзии, дневниках, статьях и письмах возникает образ трагического маскарада и игры, двойников и зеркальности. Поэта волнуют проблемы внутренней драмы (саморазрушения, жертвы), «хорового тела» (сплав актера и зрителя), игры на сцене и в жизни («психологической загадки лицедейства», как назовет он эту проблему в статье «Ницше и Дионис»).
68 «Быть друг в друга переряженными, друг друга играющими — обманывать жизнь и смерть, ибо мы с тобой правильно сознали, что надевший маску умер и царь не он, а демон. Маскарад — демоническое Да смерти». (Письмо от 24/14 февраля 1902 г.)140. В этом же письме: «Недаром была боязнь маски»141. В следующем письме он сравнивает отношения между людьми, используя образ маскарада. Ложь, притворство, игра в любовную страсть — все это у него — «любовь двух человек, могущих менять и маски, лики». (Письмо от 11/26 марта 1902 г.)142.
Ницше для Иванова — «первый в истории пример саморазрушающего маскарада, “театра для себя”»: «Этот исключительный, психологический случай самораздвоения, вызываемый сознательно для игры, зрелища, маскарад в себе и с собой, — был случай Ницше»143. В этом же письме он представляет космическую мистерию мирового исторического процесса: «Только в революционные эпохи демонические силы мирового детерминизма перестают таиться от смертных глаз, циники сбрасывают с себя маски и открыто дергают шнурками человеческих марионеток, — голые демоны, вскакивающие на лошадей гонимого ими табуна»144.
Иванов отмечает мистериальное переживание мира в близких ему художниках. В 1888 году студент-историк, ученик Моммзена записал в своем дневнике мысли, к которым он будет возвращаться в поздних работах о «романе-трагедии» Достоевского. «“Братья Карамазовы” напоминают впечатления римских надгробных рельефов позднейшей эпохи, на которых мы видим, как юноша, вскочив сзади на запрокинувшего голову жертвенного быка, вонзает длинный нож в его упругую шею, как струится из раны и падает кровь и как многочисленные животные жадно лижут и глотают ее, а одна собака, поднявшись на задние лапы и достигнув раны. Так, своеобразно мрачно… говорят эти памятники о неоскудевающей полноте и божественном целом живой природы». (Дневники 1888 – 1889 гг.)145.
Архетипом трагического и одновременно праздничного маскарада жизни с его перевернутостью верха и низа, обменом ролями является для Иванова все тот же миф об умирающем и воскресающем Дионисе, который каждый раз возобновляется в мистериальном действе. Круговорот вечных возвращений — мистерия маскарада — само бытие мира и личности в этом мире. И когда маска становится окончательно «непрозрачной», диалог («ты еси») превращается в лукавое сокрытие души — слепой, «могильно-зоркий» маскарад.
Художественное отражение мифа о страдающем боге в первом «подвиге резца» Вяч. Иванова — сборнике «Кормчие звезды» (1903). 69 Здесь, на разных уровнях поэтической системы, мы встречаем непосредственное лирическое переживание мифа (а не его проповедь, реставрацию или стилизацию).
Лирический герой книги в какой-то степени двойник бога, существующий в разных личинах, воплощение символа жертвы-жреца, смерти-воскресения, собирания мира (и бога в себе) из осколков. Это и есть центральное, «мистическое» событие книги. «Дионисийский» порыв реализуется в сложной системе символов — от «рождающегося в лоне ночи солнца» до любимого символического образа поэта — возвращения в лоно Матери-Земли:
Горько, Мать-Земля, и сладко
Мне на грудь твою прилечь!146
Теургическое назначение поэзии представляется как своеобразный вселенский маскарад в контаминации мифов о творчестве (мифы о Еве, Пигмалионе, Афродите):
Дай кровь Небытию, дай голос Немоте,
В безликий Хаос ввергни краски,
И Жизнь воспламени в роскошной наготе,
В избытке упоенной пляски!
(«Творчество»)147.
«Кормчие звезды» — первое программное мифотворческое заявление Вячеслава Иванова. Первые поэтические сборники делают его известным поэтом в России, хотя он весьма далек в это время от ее реальной общественной, литературной и театральной жизни.
Первый год XX века — год продолжающихся политических беспорядков в университетах и глубокого раскола между интеллигенцией и официальной церковью, государством. В 1901 году Лев Толстой был отлучен от церкви. Бальмонт приговорен к трем годам внутренней ссылки после публичного чтения стихотворения «Маленький султан». Арестован Горький. А. Добролюбов примкнул к секте молокан, арестован, отправлен под надзор семьи. В 1902 году Вяч. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал путешествовали по Греции, Египту и Палестине, изучая религию Диониса. В Афинах Иванов заболел тифом и несколько месяцев находился между жизнью и смертью. Как он писал потом, от смерти уходом и молитвой его спасла Лидия.
В это время в Петербурге Мережковский выступил с речью «О новом значении древней трагедии» (см. «Новое время» 15/28 октября 1902 года). На сцене Александринского театра в октябре 1902 года состоялась премьера «Ипполита» Еврипида в его переводе. Главная идея Мережковского 70 заключалась в том, что для вывода современного театра из состояния глубокого кризиса необходимо вернуть на сцену древнюю трагедию. Новый спектакль Александринского театра был объявлен им первым опытом реализации иератического действа.
В петербургской прессе в это время активно обсуждалась концепция трагедии Ницше, но современная версия древнего мистериального действа, судя по всему, была не очень удачной. Репликам хора была придана размерность литургических возгласов, его движению режиссер пытался придать соразмерность ритуальной пышности костюмов и декораций Бакста. Но такого рода действие требовало особой актерской техники, а исполнители главных ролей играли в спектакле явно по другой «системе». Отрицательные отзывы о спектакле оставили З. Гиппиус, Д. Философов (но поддержал В. В. Розанов). «“Трещит по всем швам”, так можно сказать про тело театра, когда в него вошла эта древняя душа его»148.
Призыв Иванова вернуться к литургическому жертвенному служению «у алтаря страдающего бога» прозвучал в стиле и духе своего времени, упав на вполне подготовленную почву.
Зиму и весну 1904 года Вяч. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал провели в Москве, где принимали участие в выпуске нового журнала «Весы», они посетили и Петербург, но затем вернулись в Женеву, где оставались до весны 1905 года. Вяч. Иванов работал в это время над трагедией «Тантал». В 1903 – 1904 годах в Москве активно заявило о себе новое «мифотворческое начинание» — кружок «аргонавтов». Со многими «аргонавтами» у Иванова к тому времени уже установилась тесная дружба.
«Аргонавты» впервые заявили о себе в 1903 году. Их «программа» — пересоздать окружающий мир — быт, культуру, человеческие отношения по «искусствоподобному» образцу. Существующий мир исчерпал себя, его необходимо вывернуть наизнанку, а, обнаружив его бессмысленность, противопоставить ему особый эпатажный тип поведения. Образец и любимый «культурный герой» аргонавтов — Ницше — гениальный безумец, «пророк», «уплывший» к иным берегам.
Идея «священного безумия» как мистического бегства отнюдь не новое изобретение начала века, не случайно и сами «аргонавты», и исследователи их творчества сравнивают такого рода поведение со средневековым юродством, священным шутовством переломного времени. «Москва являла собой сцену не только для торжественных ритуалов, но и для всевозможных игр и “арлекинад”, которые выполняли функцию юмористических интермедий в мистериальном действе, оттенявших сакральный смысл событий»149.
71 Наивный мистицизм и карнавальное травестирование мира, интерес к «народной», «низовой» культуре и античной трагедии, возрождение древнего ритуала и старинного балагана — эти популярные идеи возникают в начале века почти одновременно. Мифологизация и театрализация затрагивают человеческие отношения настолько, что свое собственное лицо начинает восприниматься еще более изысканной и неестественной маской: «Заговорили сущности. Сдернута маска, — повсюду удивленные, удивляющие, незамаскированные лица», — писал А. Белый в статье «О теургии» в журнале «Новый путь»150. Через год в этом журнале будет напечатана «Эллинская трагедия» Вячеслава Иванова.
Весной 1905 года Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал поселились в Петербурге в «башне» на Таврической, их «среды» вскоре затмили «вторники», «четверги» и «пятницы» Мережковского-Гиппиус, Сологуба, Розанова и другие распространенные в начале века собрания литературной и художественной богемы.
Ф. Степун в воспоминаниях о Вяч. Иванове писал, что русская жизнь рубежа двух столетий напоминала ему античный творческий праздный досуг. «Ходить друг к другу в гости, вести бесконечные застольные беседы, заседать и публично дискутировать в философских обществах считалось таким же серьезным делом, как читать университетские лекции, выступать на судебных процессах и писать книги…
Творческий дух жил еще у себя дома: он не пах ни кровью, ни потом соревнования и не требовал освещения рекламным бенгальским огнем. Несмотря на демократические и социалистические устремления в политике, в культуре жили своей интимной аристократической жизнью, и лишь в очень незначительной степени капиталом и рынком. По всем редакциям, аудиториям и гостиным ходили одни и те же люди, подлинные перипатетики, члены единой безуставной вольно-философской академии»151.
Очень быстро Иванов становится «властителем дум» (и душ) своего времени. В чем загадка этого художника, так уверенно заявившего о себе в эпоху, отнюдь не бедную на ораторов, философов и поэтов? Для воссоздания объективной картины соберем его портрет из осколков воспоминаний современников. Тех, кому довелось непосредственно испытать магию этой уникальной личности.
Е. Герцык: «Я позвонила. Дверь открыл Вячеслав Иванов. В черной мягкой блузе, сутулый в полумраке передней, освещенный со спины сквозь пушистые кольца волос, казался не то юношей, не то стариком. Так и осталось навсегда: какой-то поворот, слово — и перед тобой старческая 72 мудрость или стариковское брюзжание, и через миг — окрыленность юности. Никогда — зрелый возраст»152.
О. Дешарт: «Внешность В. И. была необычайна: высокий стан, сутулые плечи, которые как будто ждали мантии кардинала или средневекового доктора, тяжеловатый и в то же время модернистически-эластичный, танцующий шаг, просторный, высокий, духовный лоб, небольшие, острые, внимательные, переливающиеся всеми средними цветами спектра (от зеленого до синего) глаза с тревожащими, пронзительными зрачками <…> Хороши были руки: тонкие, длинные, с красноречиво и разнообразно говорящими пальцами, они казались протянутыми с полотен Леонардо да Винчи. Впрочем, в облике В. И. ничего леонардовского не было. Он напоминал портреты Дюрера и Квинтена Массейса»153.
Ф. Степун: «… Вяч. Иванов был награжден весьма своеобразной и необычайной внешностью. В лисьей шубе с выбивающимися из-под меховой шапки космами длинных волос и небольшой рыжеватой бородкой, он зимой в извозщичьих санках мало чем отличался от сельского батюшки. Склоненный бледным, впоследствии бритым лицом, напоминающим лицо его учителя Моммзена, над лекторской кафедрой, он в длиннополом черном сюртуке являл собой законченный облик немецкого ученого середины прошлого века. Фрак явно превращал его в музыканта. Каждый, мельком взглянув на него, увидел бы в этом скрипаче или пианисте проникновеннейшего исполнителя Бетховена и Шумана. Возраста В. И. был всегда неопределенного»154. Самой главной чертой в Иванове Степун считает любовь «к пиршественной игре духа»155.
Б. Зайцев: «Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог — и устраивал — некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда»156.
Г. Адамович: «Высокий, чуть-чуть сутуловатый, весь золотистый и розовый, в ореоле легких, будто светящихся золотых волос, в длинном старомодном сюртуке, он стоял, не то пританцовывая и припрыгивая, — и говорил, растягивая слова, улыбался неожиданно мелькнувшей новой мысли, останавливаясь, чтобы мысль эту додумать, с повисшей в воздухе рукой, и никому в голову не приходило, чтобы можно было его перебить или его не дослушать. Среди обыкновенных людей стоял какой-то Орфеи, всех покорявший»157.
А. Белый оставил множество наблюдений и характеристик поэта. Наиболее известная — первое впечатление об Иванове: «немецкий учитель из Гофмана», самая непосредственно-субъективная: «одна его беда: всякий юнец мог в житейском его объегорить; в мире идей всех затаскивал 73 в дебри; был период, когда я подумал: не волк ли сей овцеподобный наставник?» «Дверь — в улицу: толпы валили, лаская журил; журя, льстил; оттолкнув, проникал в ваше сердце, где снова отталкивал… Недоставало, чтобы он, возложивши терновый венец на себя, запахнувшись во взятую у маскарадного мастера им багряницу, извлек восклицания: “Се человек!” <…> в контексте с показом Иванова означает: “Се шут!”»158.
Еще одно часто цитируемое определение — название статьи А. Измайлова — «Звенящий кимвал» и очень резкий отзыв: «Какой “новый миф” удалось ему создать? Какой возврат к религиозным началам он совершил, кроме возврата к заржавевшим старинным словам?.. Этот учитель латыни… весь в пыли старых словарей, этот трагический актер, забывший разгримироваться и выскочивший в живую толпу на котурнах и в трагической маске?»159
С. Франк обвинил Иванова в интеллектуальной нечестности и в «артистическом народничестве». «В. И. не только художник, но и прежде всего — артист, грезы и действительность слиты в его воображении, и ему хорошо известно и доступно невинное, как бы инстинктивное искусство позы и игры. Было бы, конечно, грубо и несправедливо заподозрить почтенного поэта и мыслителя в прямом, намеренном “маскараде”, но, признаюсь, если бы мне на Невском встретилась женщина, одетая Сибиллой, я принадлежал бы к той “толпе”, которая упорствовала бы в своем недоверии и видела бы пред собой ряженную, которая перестала различать вымысел от жизни, — сцену, изображавшую роскошный эллинской быт, от гнетущей реальности мокрых и туманных петербургских улиц»160.
Между Мариной Цветаевой и Вячеславом Ивановым не было большой дружеской близости, но между ними постоянно существовала какая-то неуловимая связь.
Ты пишешь перстом на песке,
А я подошла и читаю.
Уже седина на виске.
Моя голова золотая.
Как будто в песчаный сугроб
Глаза мне зарыли живые.
Так дети сияющий лоб
Над Библией клонят впервые…
(«Вячеславу
Иванову»)161
О. Мочалова: «По общему утверждению, Вячеслав Иванович удивительно выиграл в наружности к возрасту седины. В зрелости он был рыж и массивен. Это ушло, и осталась соразмерность фигуры, тонкость 74 черт лица. Не одни “жены-мироносицы”, как ехидно называли его поклонниц, восхищались каждым жестом, каждой позой великого артиста <…> Женственность, младенческая беспомощность опущенных рук, что-то от птицы, от камня, от колебанья ветвей. Лицо ученого, мудреца, провидца. Изящество каждого слова и каждого шевеленья <…> Голос его не имел сравненья по своему музыкальному звучанью — выверенный звук, легко взлетающий, прозрачный, серебряный. Великолепное знанье людей и уменье властвовать ими. Говорили, что еще в гимназические годы он умел усмирять юношей-кавказцев, которые бросались друг на друга с кинжалами во рту»162.
В письме к В. Брюсову от 31 июля 1905 года поэт сообщает свой адрес в Петербурге — Таврическая, 25. Знаменитая «башня» Вячеслава Иванова.
«Башня», где происходили «исторические» «ивановские среды», представляла собой круглую комнату, перегороженную с двух сторон. Кроме «башенной» в квартире были и другие «знаменитые» комнаты. Например, оранжевая, цвета античной терракоты комната Лидии с бесчисленными подушками, платками и шалями; в центре — урна, в которой Вячеслав и Лидия хранили свои рукописи. Огненно-красный рабочий кабинет Вячеслава Иванова, мансардные комнаты для гостей.
В период «сред», который продолжался в общей сложности всего три года, гостей у Ивановых перебывало очень много. С 1907 года некоторые останавливаются здесь уже основательно и надолго. Многократно и подолгу на «башне» гостили М. Волошин и М. Сабашникова, А. Минцлова, Гюнтер, Ю. Верховский, В. Эрн, А. Белый (писавший здесь свой роман «Петербург»), М. Кузмин.
«Среды» начались ранней осенью 1905 года (первая среда 2 – 3 сентября 1905 г.) и продолжались до начала лета 1906-го. После летнего перерыва они возобновились, но в декабре 1906 года прерваны болезнью Лидии. Весной 1906 года «среды» проходили уже нерегулярно. Летом Ивановы уехали в Загорье, где 17 октября Лидия Дмитриевна скончалась. В 1908 году предприняты попытки возобновить собрания по средам, но эти попытки были неудачными. Как пишет Н. Бердяев, умерла их душа, их освобождающая и расковывающая стихия. Но «башня», вплоть до отъезда Иванова в 1912 году из Петербурга, по-прежнему оставалась литературным и художественным центром.
Два постоянных посетителя «башни» — Н. Бердяев и В. Пяст оставили об этом времени интересные и подробные воспоминания. В. Пяст и В. Эрн были первыми и единственными гостями на первой «среде» у Иванова. Но уже со следующей «среды», по свидетельству В. Пяста, 75 «башня» наполнилась самой разнообразной художественной и ученой публикой. В. Пяст становится непременным председателем и участником этих сред. Когда собрание переходило в ученый диспут, председательствовал в этом диспуте Н. Бердяев.
«Первые две-три “среды” начинались, сколько помню, рано; рано и кончались. Но в скором времени установился обычай приходить на “среду” к 12-ти, к часу, и уж, во всяком случае, — не раньше 11-ти часов, — вспоминает В. Пяст. В скором времени в обычай вошли еще четвертные бутыли простого красного, а также белого вина, и бесчисленное количество маленьких стаканчиков»163.
Для Бердяева «среды», наоборот, — «духовная лаборатория», в которой «преобладали тон и стиль мистический». «Но ошибочно было бы смотреть на среды, как на религиозно-философские собрания <…> Это не было место религиозных исканий. Это была сфера культуры, литературы, но с уклоном к предельному. Мистические и религиозные темы ставились, скорее, как темы культурные, литературные, чем жизненные»164.
Частыми посетителями «сред» бывали А. Блок, Л. Беккет, Л. Бакст, Ф. Сологуб, М. Добужинский, С. Городецкий, В. Мейерхольд, М. Кузмин, К. Сомов, А. Ремизов, В. Розанов, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов, А. Карташев, С. Булгаков, Ф. Зелинский, М. Волошин, Е. Аничков, Г. Чулков, М. Горький, А. Луначарский, А. Толстой, в последнюю зиму 1906/07 года было много артистов театра Комиссаржевской.
Итак, мифотворчество или театрализация? Что представляет собой попытка Иванова осуществить на деле «соборное» общение в духе и истине, этот «платоновский симпозион» — он же «пир во время чумы», как иронически пишут современники?
Прения, упорядоченные колокольчиком председателя (темы докладов — «Романтизм и современная душа», «Искусство и социализм», «Актер будущего»), игра духа и интеллекта. И закидывание яблоками с апельсинами скучных ораторов.
Литературный анализ стихотворений лучших поэтов, чтение новых стихов. Корней Чуковский вспоминает, как на исходе белой петербургской ночи все вышли на крышу через окно мансарды, и Блок, забравшись на раму для телефонных проводов, в очередной раз прочитал «Незнакомку». Когда он закончил, в Таврическом саду запели соловьи. И непременные костюмы поэтов, ставшие вскоре всероссийской модой — черный сюртук и черный шелковый галстук бантом — костюмированный маскарад, повод к пародиям и насмешкам.
76 В современных исследованиях можно встретить две противоположные точки зрения. Первая: Вячеслав Иванов — мистик, серьезно верящий в создание нового ритуального действа, певец «саморазрушительного падения». А. Эткинд в большой работе «Хлыст: секты, литература и революция» в главе, посвященной Вяч. Иванову, пишет: «Эти интересы Вячеслава Иванова развивались параллельно тому, что происходило в других центрах эстетического модерна: Вене Фрейда, Музиля и Климта; в литературной школе Блумсбери в Англии, круге Стефана Георге в Германии, Париже сюрреалистов <…> Мысль Иванова радикальна и эротична; таков дух эпохи и таков стиль нашего автора. Это живое, коллективное, исступленное, разнузданное действо должно вытеснить другие культурные формы… Его идеи настолько серьезны, насколько только могут выдержать бумага и текст»165.
С. В. Стахорский в работе «Вячеслав Иванов и русская театральная культура начала XX века» настаивает на том, что роль мистагога была для Иванова театральной ролью, атмосфера «башни» противостояла мифотворчеству «аргонавтов» и другим «мистическим» собраниям, что «вечери Гафиза» и многие «проповеди» Иванова (в том числе скандального «союза трех») — мистификация, розыгрыш, демифологизировавшие атмосферу «башни» здоровым духом театральной игры.
Вероятно, истина находится не в этих крайних мнениях, а где-то посередине. Достаточно обратиться к дневникам Вячеслава Иванова, чтобы убедиться, как серьезно он относился и к Гафизу, и ко многим своим весьма спорным начинаниям. В попытках же их осуществления нет главного, определяющего элемента театрализации (или «карнавализации», по выражению Бахтина) — остранения. Этим, на наш взгляд, отличается и вспышка интереса поэта к «вечерям Гафиза», и отъединенность от большинства «гафизитов», которым его проповедь «мистического энергетизма» и «прометеизма» в этом мифологическом маскараде показалась чуждой.
Во время одной из «сред» — 25 – 26 апреля 1906 года было принято решение о создании общества «Гафиза» (Сомов, Нувель, Кузмин). Первое собрание состоялось 2 мая 1906 года. Игра в эротико-поэтический союз шла параллельно с увлеченной попыткой создания театра «Факелы» и началом крепнущей дружбы с Мейерхольдом.
В июне 1906 года Иванов записывает в своем дневнике: «Гафиз должен сделаться вполне искусством. Каждая вечеря должна заранее обдумываться и протекать по сообща выработанной программе. Свободное общение друзей периодически прерываться исполнением очередных нумеров этой программы, обращающих внимание всех к общине 77 в целом. Этими нумерами будут стихи, песни, музыка, танец, сказки и произнесения изречений, могущих служить и тезисами для прений; а также некоторые коллективные действия, изобретение которых будет составлять также обязанность устроителя вечера…»166.
Собственные искания Иванова подкрепляются опытом конкретного восточного поэта, в котором можно увидеть и мистика, поэта божественной любви, открывающей смысл бытия, и эпикурейца, поэта чувственных наслаждений. Гафиз для него — один из образов воплощения искусства в мире и мира в искусстве. Существование Иванова в этом «мире искусства» или искусственном мире не может быть понято в терминах остранения или растворения, мифотворчества или театрализации, но возможно в его собственных терминах — восхождения-нисхождения.
Неосознанное, подсознательное мифотворчество и сознательная театрализация — диалогическая установка поэта, пропускающего и впускающего мир в себя и отдающего обратно — «arealibus ad realiora».
Из дневника 1 июля 1906 года: «Вчера я проповедовал Гафизитам “мистический энергетизм”. Они сердятся на “моралиста” и думают, что это одно из моих девяти противоречий. (“В чем мудрость Муз?” — спросили меня. Я сказал: “В том, что их девять: поэзия — девять противоречий). Между тем, это — мое настоящее и верное”»167.
Вспомним также, что путь саморазрушения (жертвы) в философии Иванова — единственно возможный для поэта.
Годы царственного духовного пира на «башне», возвышающейся над «городом-мороком», «городом мглы», поэт вспоминал позже как годы огненного испытания духа.
Из дневника 27 июня 1909 года: «Два года я ношусь над землей между фантасмагорией и потусторонней истиной, и дух мой глубоко устал в этих попытках различения между сном и действительностью, в этих обрывающихся усилиях беспримесного приятия миров иных.
Мистерии — система мытарств и испытаний, молотилок и веялок. Кто отойдет в демонизм, будет — пусть будет! — каинит. Кто сойдет с ума, оказался на каком-то урочном месте немощным. Кто не избежал волчьей ямы, но должен действовать на земле, и гибель его лучшая участь. Не устраняются возможности смерти, их число, напротив, увеличивается для того, кто восхотел непорочного дела и возлюбил Агнца; если умрет он, лучше ему пойти на богомолье там, чем здесь, — ибо здесь какое ж богомолье? В редчайших случаях друзья Агнца остаются на земле долго, если утверждают эту дружбу жизнью, действенно и творчески»168.
78 Чаще всего Иванову указывают на заблуждения («утопические», «еретические», «греховные») в попытках утверждения идеи «соборности», чаемого духовного союза в жизни, в иллюзорном желании «коллективным духовным порывом» преодолеть «сон разума» — демоническую психологию индивидуализма. В самом деле, в период 1905 – 1912 годов роль учителя, наставника, лидера, «мистагога» «играется» Ивановым весьма последовательно и убедительно. В том числе и ведущего театрального теоретика, провозвестника новых театральных форм.
Реальное воздействие Иванова на современный театральный процесс невелико — наставничество актеров театра Комиссаржевской при Мейерхольде (актеры театра исполняют его «Дифирамб» — единственное драматическое произведение при жизни Иванова увидевшее свет рампы); безуспешное стремление Мейерхольда ввести Иванова в состав литературного бюро Студии на Поварской; неосуществленная постановка «Тантала»; невоплощенный проект театра «Факелы»; «башенный театр» с его единственным спектаклем — «Поклонение кресту» в постановке Мейерхольда, перевод Ивановым совместно с Брюсовым «Франчески де Римини» Д’Аннунцио (пьеса была поставлена в театре у Комиссаржевской и в Малом театре), неосуществленный проект «Орестеи» Эсхила в переводе Иванова в Александринском театре.
Другое влияние Иванова — «идейное», влияние его театральной теории на современный русский театр более очевидно. Например, в статье Г. Чулкова о Студии МХТ на Поварской под руководством Мейерхольда (журнал «Вопросы жизни» 1905, № 9), программа студии — создание «нового театра мистической драмы» рассматривается с точки зрения театральной теории Иванова.
Зимой 1905 года Мейерхольд переехал в Петербург, появился на «средах», где был активно вовлечен в новые театральные планы. В конце 1905 года на «башне» появился проект создания журнала «Факелы» (издание было осуществлено в 1905 – 1908 годах под редакцией Г. Чулкова в виде литературно-философских сборников) и театра «Факелы» (театр создан не был, по одним воспоминаниям, из-за отсутствия материальных средств, про другим — из-за отсутствия четкой программы, практического видения того, что из себя должен представлять этот «Театр будущего»).
Почти одновременно в среде сотрудников журнала «Жупел» появилась идея сатирического театра под руководством Мейерхольда. «Поскольку в обоих театрах предполагалось участие одной и той же группы художников и намечался один и тот же режиссер — В. Э. Мейерхольд, 79 инициаторы создания театров устроили 3 января 1906 года объединенное собрание»169.
На этом организационном собрании выступали Иванов, Мейерхольд, Чулков, Горький. Выступление последнего произвело сильное впечатление и на Мейерхольда (о чем он свидетельствует в письме к В. Брюсову от 6 января 1906 г.): «Между прочим, сильно врезались в память такие слова: “В скудной России и существует только искусство, мы здесь ее "правительство"”, мы слишком преуменьшаем свое значение, мы должны властно господствовать, и наш театр должен быть осуществлен в огромном масштабе. Это должен быть театр-клуб, который мог бы объединить все литературные фракции»170. И на Иванова (в письме к М. М. Замятниной от 4 января 1906 г.): «Вчера был — не знаю уже, плодотворный ли по практическим последствиям — но, во всяком случае, чрезвычайно характерный знаменательный день в жизни нашего литературного мира. Максим Горький явился милым и кротким агнцем, говорил мне много о необходимости слияния литературных фракций, о том, что мы, художники все в России, etc. Потом началось заседание под председательством Мейерхольда. Говорил сначала я — около часа — о действе, — потом Мейерхольд — о том, что мои идеи составляют основу театра “Факелы”, и о том, как приближаться к его осуществлению. Потом Горький — о том, что в России только и есть, что искусство, что мы здесь — “самые интересные” люди в России, что мы здесь — ее правительство, что мы преуменьшаем свое значение (!). Что мы должны властно господствовать, что театр наш должен быть осуществлен в громадном масштабе в Петербурге, в Москве, везде одновременно — etc. Потом я в ответ, Чулков, Мейерхольд, Андреева, Лидия, Габрилович, я — снова о мистике. Заседание продолжалась от 2 1/2 до 5 1/2 часов и должно быть возобновлено»171.
Несмотря на столь многообещающее выступление, Горький видимо, не собирался принимать участие в новом начинании, так как на следующий день после собрания надолго уехал из России.
Первый выпуск нового журнала открывался драматическим дифирамбом Иванова «Факелы». С одной стороны, это драматический отрывок, прообраз соборного хорового действа, с другой — символ творческого служения, поэтический символ духовного союза-общины, на создание которой так надеялся Иванов. Жертвенное пламя должно, по Иванову, зажечь «костер державы ржавой», это весть о рождении «слепительного Да» в черном разрушительном хаосе.
С тех пор, как мощный Прометей
Зажег от молний светоч смольный, —
80 Все
окрыленней, все святей,
Его мужающих детей
Пылает факел своевольный172.
Интересно, что когда 31 декабря 1907 года цензура разрешила дифирамб к постановке, строки про «костер державы ржавой» были изъяты как политически небезопасные.
Кончается первый выпуск «Факелов» «Балаганчиком» Блока — отражение непосредственной театральной атмосферы ивановской «башни».
Программа театра была сформулирована Мейерхольдом в «Заметках по поводу “Факелов”». Предполагаемый репертуар повторяет планы Студии на Поварской, дополненные пьесами Горького, Л. Андреева. Мейерхольд по-прежнему увлечен «Танталом». В репертуаре будущего театра — символистская драма, трагический фарс и политическая сатира.
В двух номерах журнала «Театр и искусство» 1906 года печатается статья Л. Галича с популярным изложением театральной теории Иванова и нового театрального проекта. Среди участников будущей «театрально-мистической» «общины» художников здесь названы Вяч. Иванов, Л. Д. Зиновьева-Аннибал, А. Блок, В. Брюсов, А. Ремизов, Ф. Сологуб, Г. Чулков, К. Сомов, А. Белый, Б. Билибин, М. Добужинский, И. Грабарь и др.
Л. Галич — посетитель ивановских «сред», и его видение будущего театра — возможная фиксация разговоров «факельщиков». Следовательно, хронологию некоторых театральных идей Мейерхольда можно отнести к более раннему времени.
Итак, каковы же эти начальные идеи осуществления «соборного театра» в пересказе Л. Галича?
Во-первых, это импровизация: «Быть может, театральное представление — само воспроизведение пьесы — можно подготовить вступлением, своего рода общим радением, по плану, намеченному заранее, но только в самых общих чертах».
Во-вторых, слом традиционной сцены-коробки, уничтожение зеркала рампы — «сцена спрятана за тяжелой портьерой, она даже не угадывается, потому что к каждому представлению зал убран и декорирован по-новому и сцена из одной его части переносится в другую. В зале нет вызывающих заранее зевоту параллельных рядов кресел. Мебель в нем разбросана неправильно, по капризу и вдохновению художников».
В-третьих, стирание границы между «зрителями» и «хором», вовлечение зрителей в активное действенное зрелище. «Хор мистов-писателей и актеров встречает публику у входа, вмешивается в нее, быть может, раздает 81 ей костюмы, дает знаки оркестру, старается стихами и диалогами или совместно разыгранными сценами, в которые вовлекается публика, заранее подготовить настроение. Зрители как бы гипнотизируются, и когда они достаточно подготовлены, внезапно раздвигается занавес и на сцене, как в таинственном зеркале, загорается “золотой сон”».
И, наконец, — важное уточнение Л. Галича: «Оговариваюсь: эта схема — моя. Но не думаю, чтобы Иванов стал с нею спорить. Мне не раз приходилось слышать, как им высказывались аналогичные взгляды»173.
Такова форма «всенародного» театра в изложении Л. Галича. Театра, вызывающего ассоциации с балаганом или театром-кабаре, театром перевернутых отношений верха и низа, театра, хранящего ритуальное, сакральное «соборное» единство.
В работе «О мистическом реализме» (1908) Мейерхольд пишет о таком театре, где «трагический фарс» продолжен «сгущением события до шаржа-символа»174. В этой работе Мейерхольд развивает идею «соборного» театра Иванова в своем плане театра «мистического реализма», в котором «зрелище» уступит место «деянию»: «Я говорю о том мистико-реалистическом театре, где взамен настроения дано трагическое начало и где мистический налет дан ужасом трагической маски. И там, где сцена-игра трагических масок, там стиль и его утонченность или стиль и его шарж не самодовлеющи, здесь уже не “зрелище”, а “действо”»175.
Устремленность Мейерхольда к театру действия — логическое продолжение его поисков пространственно-временной организации символистского театра, опробованной к моменту написания статьи в театре Комиссаржевской, а также поиска способа синтетического единства выразительных средств нового театра. «Здесь реалистический театр тот, где намеренно сгущены события и краски до шаржа не в аспекте бытовых картин, отражающих лики, а синтетично. Герой не изгоняется. Он выдвигается. Кругом него трагические маски. Зрителю предстает каждый миг содрогнуться, найти своего двойника, и уже близок призыв хора в минуты безмолвии. Нет пластического видения. Нет “настроений”. В архитектуре античного театра зарождается мистико-реалистический театр»176.
Мы видим, что цели нового театра Мейерхольда совпадают с театральными идеями Иванова. Это ритуальное соборное действие, обращение к античному театру маски, в котором происходит сгущение, концентрация действия, события, характера до символа. Все эти требования к новому театру Мейерхольд предъявляет в другой статье, написанной годом раньше: «Театр. К истории и технике» (1907), где в главе «Условный театр» он прямо ссылается на соответствующие указания Иванова.
82 Мейерхольд выделяет следующие мысли Иванова:
1. «Драма от полюса динамики шла к полюсу статики».
2. «Сцена не заражает, сцена не преображает».
3. «Новый театр снова тяготеет к началу динамическому. Таковы театры — Ибсена, Метерлинка, Верхарна, Вагнера». «Вяч. Иванов спрашивает: “Что должно быть предметом грядущей драмы?” — и отвечает: “всему должен быть в ней простор: трагедии, комедии, мистерии и лубочной сказке, мифу и общественности”». Московский Художественный театр пытался объединить самый разный репертуар, но ему помешало увлечение «мейнингенской манерой».
4. Возрождение «Театра-действа» и «Театра-празднества».
5. Освобождение от натуралистических декораций, создание пространства трех измерений, что помогает актеру в создании естественной статуарной пластичности. Благодаря этому принципу также расширяется самостоятельная творческая активность актера.
6. Уничтожение рампы приведет к слиянию сцены и зала.
7. Отмена сценической иллюзии — аполлонической грезы.
Мейерхольд выдвигает новые требования к актеру символистского театра. Прежде всего, это тип дикции, основанный на ритме. «Слово в таком театре будет легко переходить в напевный выкрик, в напевное молчание». Внутренний образ может быть свободно выявлен в «ритме дикции» и «ритме пластики актера», совершенно самостоятельно по отношению к произносимому тексту. Ритм — главное выразительное средство. Зритель — свободный творец, который должен своим выражением «творчески дорисовывать» предложенные ему «намеки»177.
Перед нами программа материализации театральной идеи «соборного театра» Иванова. Очевидно, концепция Мейерхольда (воплощать которую он начал еще в Студии на Поварской) складывалась параллельно теоретическим исканиям Иванова. Знакомство с его работами могло подтолкнуть Мейерхольда к выводам, что поиски адекватного воплощения драмы нового времени идут в нужную сторону.
Поиски дионисийского соборного начала — «духа музыки», который определяет сценическую форму драматического произведения, привели Мейерхольда к театральному эксперименту — постановке «Поклонения кресту» Кальдерона в «башенном театре» Иванова — одной из его комнат (даже не самой пригодной для этих целей). Это была первая попытка создания Театра-Действа и Театра-Празднества, по сути, «генеральная репетиция» мейерхольдовского «Дон Жуана».
Премьера спектакля состоялась 19 апреля 1910 года.
83 О спектакле осталось три самых подробных описания очевидцев: статья-рецензия Е. Зносско-Боровского «Башенный театр», опубликованная в восьмом номере журнала «Аполлон» за 1910-й, в которой определено, что Мейерхольд «сплел новую сказку театра». Воспоминания В. Пяста — непосредственного участника события. И поэтическое описание-стихотворение «Хоромное действо» Вячеслава Иванова.
По свидетельству В. Пяста, главным «действующим лицом» и творцом представления «была “башня”, “башня” как таковая»178. Именно дух театрализации всей окружающей действительности побудил Мейерхольда к целому ряду уникальных театральных решений и закреплению некоторых идей. Режиссер к тому времени давно помышлял о постановке спектакля в двухмерном плоскостном пространстве, здесь же сами условия диктовали ему необходимость создания плоскостных картин-«барельефов».
Художник спектакля Судейкин заменил декорации целым множеством разнообразно используемых тканей. Для достижения барельефности им были использованы свернутые ковры, положенные на пол в глубину сцены, к стене. Стоявшие на них актеры казались выше бывших впереди. Задником также служил ковер, из-за которого, стоя на самом высоком из имевшихся в доме стульев, в одной из сцен, как из окон замка, выглядывала героиня — Юлия. Эусебио смотрел при этом на нее снизу вверх, перебирая струны гитары.
Оформление спектакля «в сукнах» поражало воображение яркостью и красотой. Вот свидетельство очевидца: «Весь фон сцены был заткан, завешен, закрыт бесконечными развернутыми, разложенными, перегнутыми, сбитыми и пышно взбитыми свитками тысяч аршин тканей, разных, по преимуществу красных и черных цветов. В квартире В. И. хранились вот такие колоссальные куски и штуки старинных и не очень старинных материй. Тут были всякие сукна, бархаты, шелка»179.
Из этих же тканей был сооружен и занавес. Успех спектаклю создавало равноправное сотрудничество режиссера и художника (один из уроков этого театрального эксперимента). По словам Зносско-Боровского: «Мы видели подлинный испанский театр, скажем, балаган, с ходом в зал, без декораций, с одними материями, и перед нами было красивейшее зрелище: сочетание “испанских” желтых и красных цветов на фоне темно-зеленых и черных и — без всякого напоминания о старине — радовало глаз»180.
Воссоздавалась не буква, но дух старинной живой театральной игры. В спектакле был занят только один актер-профессионал (В. Лапинов — актер Малого Суворинского театра, исполнявший небольшую 84 роль крестьянина Тирсо), остальные актеры — постоянные обитатели и посетители «башни». Четырнадцатилетняя дочь Вяч. Иванова Лидия играла роль крестьянки Менги, Вера Шварсалон — разбойника Эусебио, Мосолов — священника Альберто, поэт В. Княжнин — крестьянина Хиля, Н. Краснова — подруга В. Шварсалон — Юлии, М. Кузмин — старика Курио, К. Шварсалон — Октавио.
Спектакль разрушал сценическую иллюзию театра-зеркала, театра-переживания наивностью актерской игры и зрительского восприятия. Это были ожившие «старые наивности» испанского театра. Благодаря этому родился новый способ театрального общения, тот новый сценический язык, который искал Мейерхольд и к поиску которого в своей теории призывал Вячеслав Иванов.
Нельзя не упомянуть две замечательные театральные находки Мейерхольда, которые стали «историей» и «классикой» нашего театра. Для игры с занавесом режиссером были придуманы арапчата, сотворенные им при помощи сажи из детей дворника Павла. «Они были наряжены в чалмы и длинные балахоны и, право, ничем не отличались от традиционных арапчат помещичьих театров XVIII века»181.
То, что все равно нельзя было скрыть, обнажалось наивным обнаружением и подчеркиванием театрального приема. Эта театральная шутка — арапчата — будет повторена Мейерхольдом в «Дон Жуане», и Анна Ахматова (открытие которой как будущей великой поэтессы состоялось там же, на ивановской «башне», в 1911 году) напишет свои знаменитые строки в «Поэме без героя».
Все равно подходит расплата —
Видишь там, за вьюгой крупчатой
Мейерхольдовы арапчата
Затевают опять возню?182
Из спектакля была изгнана всякая «механизация», в том числе и в виде электрического света — сцена и зал освещались свечами.
И еще одна «историческая» находка Мейерхольда, которая, как пишет В. Пяст, вскоре стала почти обязательной для «кабаретного типа вечеров с артистами среди публики»183. Артист в первый раз вышел в публику. «Лестницу он уволок чрез партер с осанкой важной», — писал Иванов в своей своеобразной поэтической рецензии на спектакль184.
Вячеслава Иванова — зрителя-соучастника покорило веселое обнажение подлинной природы театра.
То не балаган, — чудес,
Менга, то была палата!
85 Сцену
складками завес
Закрывали арапчата…
Дионисийская стихия реально существовала в созданной усилиями поэта и режиссера «соборной общине» — театральном спектакле.
Так вакхический приход,
Для искусства без урона,
В девятьсот девятый год
Правил действо Кальдерона185.
73 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 571.
74 Там же. Т. 1. С. 572.
75 Там же. Т. 2. С. 21.
76 Архив Вячеслава Иванова в РГБ, ф. 109, № 9.
77 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 171 – 172.
78 Там же. Т. I. С. 716, 717, 718.
79 Иванов В. И. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 1. С. 115.
80 Волошин М. А. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991. С. 200.
81 Иванов В. И. Религия Диониса // Вопросы жизни. 1905. № 6. С. 137.
82 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 79.
83 Иванов В. И. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 3. С. 50.
84 Там же. С. 50.
85 Там же. № 5. С. 39.
86 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 56.
87 Иванов В. И. Религия Диониса // Вопросы жизни. 1905. № 6. С. 185.
88 Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 21.
89 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 194.
90 Иванов В. И. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 1. С. 124.
91 Там же. С. 125.
92 Там же.
93 Там же. С. 125 – 126.
94 Там же.
95 Иванов В. И. Религия Диониса // Вопросы жизни. 1905. № 6. С. 199.
96 Там же. С. 210.
97 Там же. С. 201.
98 Там же. С. 208 – 209.
99 Там же. С. 209.
100 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 196.
101 Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 255 – 256.
102 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 76.
103 Там же. Т. 2. С. 76.
104 Там же. С. 206.
105 Там же. С. 200.
106 Там же. С. 211.
107 Там же. С. 199.
108 Там же. С. 206.
109 Там же. С. 211.
110 Там же. С. 211 – 212.
112 Там же.
113 Там же. С. 219.
114 Там же. С. 208.
115 Там же. С. 209.
116 Там же.
117 Там же. С. 206.
118 Там же.
119 Там же. С. 201.
120 Там же. С. 217.
121 Там же. Т. 4. С. 392.
122 Там же. С. 392.
123 Там же. Т. 2. С. 85.
124 Там же. С. 85.
125 Там же. С. 215.
126 Там же. С. 95.
127 Там же. Т. 3. С. 167.
128 Там же. С. 183.
129 Там же. С. 188.
130 Там же С. 178.
131 Там же. С. 181.
132 Там же. С. 187.
133 Там же. С. 188.
134 Там же. С. 188.
135 Блоковский сборник VIII. Уч. зап. ТГУ. Вып. 813. Тарту, 1984. С. 92 – 93.
136 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 572.
137 Там же. С. 572.
138 Архив Вячеслава Иванова в РГБ, ф. 109, № 9.
139 Там же.
140 Там же.
141 Там же.
142 Там же.
143 Там же.
144 Там же.
145 Там же. Кн. 1, 2. С. 10.
146 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. с. 596.
147 Там же. Т. 1. С. 536.
148 Философов Д. В. Театральные заметки. Первое представление «Ипполита» // Мир искусства. 1902. Т. 8. № 11. С. 11.
149 Лавров А. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф. Фольклор. Литература. М., 1978. С. 162.
150 Белый А. О теургии // Новый путь. 1903. № 9. С. 119.
151 Степун Ф. Встречи. М., 1998. С. 122.
152 Герцык Е. К. Воспоминания. Paris, 1973. С. 37.
153 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1 С. 94.
154 Степун Ф. Встречи. М., 1998. С. 121.
155 Там же. С. 123.
156 Зайцев Б. К. Вячеслав Иванов // Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 331.
157 Адамович Г. В. Одиночество и свобода. СПб., 1993. С. 253.
158 87 Белый А. Начало века. М., 1990. С. 65.
159 Измайлов А. А. Звенящий кимвал // Измайлов А. А. Пестрые знамена. М., 1913. С. 54.
160 Франк С. Л. Артистическое народничество // Русская мысль. 1910. № 1. С. 28.
161 Цветаева М. Собрание стихотворений: В 3 т. М., 1990. Т. 1. С. 500.
162 Мочалова О. А. О Вячеславе Иванове // Иванова Л. В. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 364.
163 Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 54.
164 Бердяев Н. «Ивановские среды» // Иванова Л. В. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 321.
165 Эткинд А. М. Хлыст: секты, литература и революция. М., 1998. С. 219, 223, 255.
166 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 752.
167 Там же. Т. 2. С. 744.
168 Там же. С. 776.
169 Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 т. М., 1968. Т. 2. С. 328.
170 Там же. С. 92.
171 Богомолов Н. А., Мальмстад Д. М. Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М., 1996. С. 69.
172 Факелы. Кн. 1. СПб., 1906. С. 5.
173 Галич Л. Диониосово соборное действо и мистический театр «Факелы» // Театр и искусство. 1906. № 9. С. 139.
174 Мейерхольд В. Э. О мистическом реализме. РГАЛИ, ф. 998, т. 1, ед. хр. 400. Л. 1 – 3.
175 Там же.
176 Там же.
177 Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968. С. 138, 139, 140, 142.
178 Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 177.
179 Там же. С. 172.
180 Зносско-Боровский Е. А. Башенный театр // Аполлон. 1910. № 8. С. 32.
181 Там же. С. 32.
182 Ахматова А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 32.
183 Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 174.
184 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 54.
185 Там же. С. 55.
88 Глава 3.
ДРАМАТУРГИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА
В 1903 году, во время работы над вторым поэтическим сборником — «Прозрачность», Иванов приступил к работе над драматической трилогией. Начиная трагедию «Тантал», он обозначил ее так: «Трилогии “Танталида” первая часть»186. Первая часть — трагедия «Тантал» была закончена в 1904 году и опубликована в альманахе «Северные цветы» в 1905 году. Параллельно с «Танталом», то и дело откладывая его, Иванов писал вторую часть трилогии — «Ниобею». «Ниобея» осталась незавершенной, Иванов все больше увлекался «Танталом».
В 1907 году он начинает писать третью часть трилогии — «Сыны Прометея». Трагедия была закончена в 1914 году и опубликована в 1915 году (затем она была переиздана Ивановым в 1919 году под названием «Прометей»). В первом замысле главным героем завершающей трилогии должен был стать кто-то из потомков Тантала — Пелопс или Бротеас. Отказавшись от этой идеи, Иванов написал завершающую часть трилогии — «Прометей».
История создания «Тантала» и «Ниобеи» весьма примечательна. Замысел трагедии «Ниобея» возник у поэта в феврале-марте 1900 года в Англии. «Лондонский период» жизни В. Иванова относится к периоду «странствий» (1895 – 1901), связанных с драматическими событиями в его жизни.
Первая встреча Вячеслава Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал произошла в Риме в июле 1893 года. Через год они вновь встретились во Флоренции, и затем, в марте 1895 года, снова в Риме. В «Автобиографическом письме» Иванов вспоминает: «Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне — жестоко и ответственно, но по совести, правильно — решить представший мне в 1895 году выбор между глубокою и нежною привязанностью, в которую обратилось мое влюбленное чувство к жене, и новою, всецело захватившею меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью. Я прямо сказал обо всем жене, и между нами был решен развод. Прежде чем были устранены многие препятствия, стоявшие на пути к нашему браку, я и Л. Д. Зиновьева-Аннибал должны были несколько лет скрывать свою связь и скитаться по Италии, Швейцарии и Франции»187.
Причины скитаний заключались в следующем: развод Вяч. Иванова с Дарьей Михайловной был оформлен достаточно быстро, но, по законам 89 Российской Империи, взявший на себя вину не мог получить права на второй брак. Муж Лидии Дмитриевны в разводе отказал. 28 апреля 1896 года в Париже у Лидии и Вячеслава родилась дочь, названная в честь матери Лидией. Большая семья (у Лидии от первого брака было трое детей — Константин, Сергей и Вера Шварсалон) была вынуждена скитаться по Европе, соблюдая тайну своего местопребывания, так как бывший муж Лидии пытался отобрать у нее детей. Только в марте 1899 года брак Л. Д. Зиновьевой и К. С. Шварсалон был официально расторгнут, и начались новые хлопоты — оформление второго брака.
Лидии и Вячеславу удалось обвенчаться только в августе 1899 года в Италии в греческой православной церкви в Ливорно. 17 сентября 1899 года у Ивановых родилась дочь Елена. Стремясь укрыться от любопытных глаз, а также определить старших детей в школу, Ивановы переезжают в Лондон. О том, что их брачный союз по российским законам по-прежнему остается неофициальным говорит тот факт, что крещение Лидии в православной церкви состоялось только год спустя — 16 декабря 1900 года в Мюнхене. При этом в метрику Лидии был записан только отец — В. И. Иванов, имя матери указано не было.
В Лондоне на очень короткое время Ивановы обрели дом и чувство семейного покоя. Вячеслав занимался исследованиями по римской истории в Читальном зале Британского музея. Но в конце ноября от воспаления легких умерла двухмесячная дочь Елена. Через несколько дней недалеко от дома был найден подкинутый младенец. Вячеслав и Лидия, решив, что ребенок был послан им в утешение, пытались его усыновить, но, по английским законам в усыновлении им было отказано.
В ноябре-декабре все дети, а также сам Вячеслав тяжело и опасно болели. Об этом он сообщил в письме к другу семьи М. Замятиной от 26 декабря 1899 года: «Вот уже неделя как мое существо отравлено жаром, кашлем, головной болью… Отравлено и разломано. При этом мысль поглощена заботами и тревогами; а основная глубокая нота настроения — ощущение густой фатальной тени, окутавшей наш путь». И в следующем письме: «Писал и повторяю, что нас объяла тень смертная…»188.
В середине января 1900 года по совету доктора Ивановы совершили поездку к морю, в Брайтон. В феврале-марте в Тинтажиль (Северный Корнуол). Здесь у моря поэт испытал физическое и духовное «возрождение». Иванов пишет стихи, составившие впоследствии половину цикла «Thalassia» в сборнике «Кормчие звезды», решив обратиться к большой поэтической форме, обдумывает древний миф о Ниобее.
В письме к М. Замятиной от 29 марта 1900 года посланы стихотворения «Мгла», «Голос моря», а также дано поручение — «тонкое и эсотерическое»: 90 «Если в статьях о Ниобее найдете что-нибудь, об отношении мифа Ниобеи к Дионису, то не сможете ли выписать и прислать мне те места древних авторов (в подлинном тексте), на которые делаются ссылки»189.
Море, живописные скалы, руины замка корнуольского короля Марка, куда Тристан привез королеву Изольду. Сюжет незаконной романтической любви, вдохновивший весьма ценимого Ивановым композитора Вагнера, был оставлен поэтом без внимания. Вячеслав Иванов увлекся древним мифом о несчастной матери Ниобее, возгордившейся своими детьми и потерявшей их — сюжет богоборчества и смирения.
В письме к М. Замятиной от 10 апреля он благодарит ее за труды и посылает стихотворения «Прилив» и «Ступени воли».
Воля! Хищницею нищей —
Рыжей птицей стен рудых —
Ты гоняешься за пищей
В смутной бездне вод седых <…>
Одиночество творишь
Ты единством волн безбрежных,
И из уст моих мятежных:
«Так, да будет!» — говоришь190.
В следующих письмах — от 14 апреля 1900 года: «Спасибо, особенно за труд писать по-гречески… Так что я имею даже большое искушение попросить Вас взять “August Nauck, Fragmenta Tragicorum Graecorum” и выписать сохранившиеся фрагменты из трагедии Ниобея (Niobe, Nixbh) Эсхила (Aeschylus) и таковой же Софокла (Sophocles). <…> Дороги мне эти фрагменты чрезвычайно…»191.
И, наконец, в письме от 25 апреля Иванов посвящает Замятину в свои планы: «Поясню вам, что дело идет о большом художественном труде, уже начатом; не только подвигать его вперед, но и (что важнее) установить его план, и даже решить, возможен ли он и верна ли его основная идея, нельзя было, не имея под рукой известного филологического материала. И без того пришлось все почти предугадывать и предчувствовать, и принимать как бы данным a priori; вот почему говорю, что сообщаемое вами мне драгоценно: теперь знаю, что план я начертал правильно, и правильно начал, мой поэтический и филологический такт оправдан, вести дело дальше возможно, и помимо всего того, я обогащен превосходным материалом, которым буду пользоваться на каждом шагу. “Ниобея”, конечно, не предназначается для сборника, а для отдельного издания; но помните, что все это — секрет»192.
91 В 1903 году Иванов приезжает на короткое время в Россию. Вернувшись из поездки, он размышляет о судьбах современного искусства, о природе священной древнегреческой катарактики. В письме к В. Брюсову от 1/14 ноября 1903 года из Швейцарии Вяч. Иванов говорит о замысле трилогии и первой ее части — «Тантал». К этому времени им были уже написаны хоры дев Ореад из «Тантала» и хоры Менад из «Ниобеи». Они составляли пятый раздел книги «Прозрачность», впоследствии ликвидированный. В письме от 25 ноября 1903 года упоминается уже и «Ниобея».
26 февраля (10 марта) 1904 года Иванов предложил Брюсову для альманаха «Северные цветы» отрывок из трагедии «Ниобея», работа над «Танталом» была в это время прекращена. Вся переписка следующего года была посвящена «Ниобее». В. Брюсов с нетерпением ждал окончания «Ниобеи», которую планировал подготовить в печать для альманаха «Северные цветы» к концу ноября. Вместо «Ниобеи» 2 ноября 1904 года он получил письмо от Вяч. Иванова: «Огорчу ли тебя — не знаю, но… трагедия сегодня закончена, и трагедия эта — “Тантал”. Опять обманываю вас. Но лично рад, что это “Тантал”; написать “Ниобею” раньше было невозможностью. “Тантал” содержит 1400 стихов или немного более (4 листа, думаю)»193.
В следующем, очень важном письме В. Брюсову 26/13 ноября 1904 года Иванов пишет: «“Тантала” я отослал <…> В “Тантале”, как видишь, я начинаю стих с маленькой буквы. Казалось мне, что это облегчает фразировку. Но за эту поэтическую орфографию не стою: в Сев. Цв. нужно соблюсти единство. Притом я представляю себе трагедию, напечатанную крупным (более удобном для чтения стихов в массе) шрифтом, а не шрифтом “Прозрачности” и “Urbi et Orbi”. Стих, как ритмическая строка только выигрывает от Майюскулы <…> Опять о “Тантале”. Ты увидишь, что изменения, которые я тебе обещал, я все же не сделал. Оказалось, после пережитого тогда кризиса, что его первоначальный архитектурный план — художественная необходимость. Да и сомневаюсь, в конце концов, в абсолютной несценичности долгого вступительного диалога между Танталом и Хором. Этот пролог (трагедия в трагедии, первая внутренняя трагедия) — все-таки диалог и требует богатой игры и героя, и хора»194.
И последнее письмо, касающееся «Тантала» к В. Брюсову от 18 ноября 1904 года: «Нет ли возможности добыть шрифты гласных с ударениями, как “и”, “ы” и особенно “i” — для “Тантала”? Вся моя метрика пойдет прахом, если читатель будет упорно произносить “Иксион” и “Амфион”, как “Тантал”»195.
92 Из данной переписки видно, какое значение Вячеслав Иванов придает Слову трагедии, его звучанию, метрике и ритмике и даже размеру шрифта. Слово имеет для него «магический», ритуальный характер. Оно связано с ритмическим построением пространства будущего спектакля. Слово является главным действующим лицом будущей мистерии. Поэтом доказывается сценичность пролога, заключающаяся в статичном диалоге между Танталом и Хором. Диалог этот требует «богатой игры» — опять же, очевидно, магической игры Слова.
В примечаниях к трагедии «Тантал» в Собрании сочинений Иванова, а также во введении О. Дешарт включает пояснение о кризисе, о котором упоминает автор. Поэт пережил его во время работы зимой 1904 года.
В примечаниях: «Пережитый кризис, о котором упоминает В. И., это — мучительные приступы тоски и уныния от сознавания своего “неправого” земного самодовления, от признания вины непреодоленной “целюлярности” своей, от ощущения себя убийцею, вошедшего в этот мир и осуществившего себя как особь посредством уничтожения других возможностей. Такое трудное преодолевание “индивидуализма”, душевно и духовно болезненное, сказалось физически в припадках страшнейшего удушья. Тогда отчаянным усилием воли поэт следует древней телестике и катартике, прибегает к трагедии для “очищения страстей”. Трагедия эта — “Тантал”»196.
Биограф В. Иванова О. Дешарт пишет: «Из “глубоких омутов души” подымалась изнурительная тоска по утраченной реальности мира <…> В. И. стал ощущать на шее и груди “узлы змеи”, узлы, которые сжимали горло и сердце, прерывали дыхание. Приступы удушья были столь мучительны, что В. И. даже к врачам обращался за помощью. Но доктора отказались его лечить, объяснив, что такие припадки суть “просто нервные явления”. Тогда поэт, опять как прежде, прибегает к старой, испытанной, верной для художественно одаренных людей “Меdicina animae”, к лечению ритмами, к непосредственному самообнаружению, ко снятию внутренних заторов посредством поэтического творчества: он пишет трагедию. Сперва припадки усилились; порою во время писания В. И. казалось, что он умирает; но когда трагедия была дописана, припадки удушья прекратились»197.
Творческий процесс написания трагедии был для Иванова своеобразным мистериальным действом. В этом творческом акте происходило соединение хора и хоревта, жреца и жертвы, «поэта» и «черни», преодолевался «кризис индивидуализма». Одним словом, в процессе работы над трагедией, за письменным столом «игралась» мистерия поэта.
93 Вячеслава Иванова не увлекала задача реконструкции формы античной трагедии, не стремился он и к восстановлению древнего космогонического мифа. Поэт создает новую форму символистской трагедии и, вольно обращаясь с различными вариантами древнего мифа, творит его новую версию.
Иванов дает обоснование своего обращения к античному мифу и к античной драме и достаточно свободного к ним отношения в написанном им для отдельного издания трилогии «предисловии» и в последующем его варианте — «предисловии к трагедии». Так как замысел трилогии в целом осуществлен не был, не было опубликовано и это «предисловие». Лишь один из его вариантов был опубликован уже в наши дни в ежегоднике рукописного отдела Пушкинского Дома за 1980 год вместе с сохранившимися отрывками из «Ниобеи». Между тем в предисловии содержится ряд замечаний Иванова, которые важны при анализе всей его трилогии.
«Не прихоть или пристрастие внушили автору его замысел, и не притязание столь же нелепое, как и произвольное, — мериться с древними в создании чего-то греческого для воображаемых греков, — не археологическую и ученую задачу, одним словом, он поставил себе, но общечеловеческую и вневременную, и потому по существу своему всегда древнюю и новую вместе; греческую же форму избрал орудием разрешения этой всеобщей задачи не просто как достойнейшую и совершеннейшую, но в силу трех исключительных ее особенностей:
1. Форма античной трагедии представлялась автору, в своих существенных чертах, формой будущего, возрожденного народного театра. Сдружиться с ней, думалось ему, должны мы путем самостоятельных творческих попыток; им же естественно начаться с воспроизведения в его эллинской одежде эллинского мифа, поскольку миф этот является общим и вековечным достоянием эллина и варвара: искавшего и ныне ищущего.
2. Идеи, которые автор пытался воплотить, не находили себе мифа, более сродного, нежели избранный древнегреческий.
3. Идея Диониса, являющаяся для автора разрешением и последним словом трилогии, как и разрешающим словом запросов современности, могла быть выражена наиболее просто и подлинно только в образах мифологии, которая впервые ввела ее в религиозно-нравственное сознание человечества.
Эта точка зрения оправдывает и свободу во внутренней и внешней обработке мифа, простирающуюся до контаминации сказаний о Тантале (по пиндарической версии), о Бротеасе, о Сизифе, об Иксионе. Примеры 94 подобной же вольности в сочетании разнородных мифов нередки и у древних трагиков»198.
Мифологическая концепция, концепция миропорядка и трагического пути человечества представлена драматургическими средствами. Для интерпретации этих трагедий требуется огромный культурно-философский и историко-литературный комментарий, который к тому же невозможно составить без учета контекста всего художественного и теоретического творчества Иванова. Из приведенного предисловия к трилогии видно, что в самом строении древнегреческой трагедии Иванов ценит, прежде всего, живое выражение целостного религиозного мифологического сознания.
Исследование неоконченной трагедии «Ниобея» возможно методом сравнительного анализа сохранившихся отрывков с трагедией «Тантал», с которой она связана формой — стихотворным размером (ямбический триметр), а также идеями, проблематикой, символикой, мистериальным масштабом действия.
«Ниобея» и «Тантал» числятся среди несохранившихся трагедий Эсхила. Эсхил — любимый драматург Иванова, поэт перевел все его семь трагедий размером подлинника.
Объем «Тантала» (около 1400 строк) даже выверялся автором по «канону» — каноническому объему трагедий Эсхила.
От «Ниобеи» сохранилось 354 строки, что, видимо, составляет четвертую часть всей трагедии. Перечень действующих лиц отсутствует, сохранившийся отрывок имеет экспозиционный характер, поэтому представить сюжет и развитие фабулы нового «Ивановского» мифа невозможно. Можно сделать лишь некоторые предположения, исходя из задач и идей поэта этого периода, а также сравнивая «Ниобею» с «Танталом».
И в том, и в другом случае Иванов контаминирует различные версии мифов о Тантале, Бротеасе, Сизифе, Иксионе и Ниобее. Источники, которыми он пользуется — это Гомер, Пиндар, Еврипид, Гораций, Овидий.
Согласно греческой мифологии, Ниобея — дочь Тантала, супруга фиванского царя Амфиона. По Гомеру, у нее было шесть сыновей и шесть дочерей, по Гесиоду и Пиндару — десять и десять, по Сапфо — девять и девять, по трагикам — семь и семь. Ниобея возгордилась своим многочисленным потомством перед богиней Лето, имевшей только двоих детей (Артемиду и Аполлона), и даже запретила фиванским женщинам поклоняться богине и приносить ей жертвы. Разгневанная богиня пожаловалась на Ниобею своим детям, и Аполлон поразил стрелами всех сыновей Ниобеи, а Артемида — всех дочерей. По одному из вариантов, 95 Артемида сжалилась над младшей дочерью, а по другому остался живым младший сын.
Потрясенный гибелью детей, Амфион покончил с собой. По одной из версий, Ниобея после гибели детей и мужа вернулась на родину; увидев отца, обреченного богами на мучительное испытание (пребывание над нависающей над ним скалой), не смогла больше переносить выпавшие на ее долю испытания и взмолилась Зевсу, чтобы тот превратил ее в камень. По другой версии, Ниобея окаменела без божественного вмешательства, увидев гибель детей, и ветер унес ее каменную фигуру на вершину горы, где из ее глаз вечно льются слезы.
Сцена гибели детей Ниобеи очень популярна в античном искусстве. Словарь античной мифологии трактует образ Ниобеи как олицетворение печали, страдания и горя. Следует отметить важное значение, придававшееся числу детей Ниобеи различными античными авторами, что связано с сакральным значением символики числа в пифагорейской и орфической мистериальной религиозной традиции. Вяч. Иванов был хорошо знаком с этим учением, числовые символы в его собственных мифах о Тантале и Прометее тоже имеют не последнее значение.
Трагедия Иванова начинается там, где сюжет древнего мифа заканчивается: после гибели детей Ниобея, перенесенная в облаке в родной край, полная горя и обиды на богов, мечтает стать камнем. Иванов предусматривал рассказ Ниобеи о предыдущих событиях, но не из соображений развития сюжета, а из необходимости обозначения изначальной мятежной богоборческой позиции дочери Тантала.
В древнем мифе источник мятежа — гордыня Ниобеи, у Иванова это трагедия, идущая от бесплодности крайнего индивидуализма, а также от «полноты», от неумения (как и в случае с Танталом) «принимать дары», и, в конечном счете, несвободы.
Начинается трагедия с яркой выразительной ремарки: «Ниобея сидит, поникнув, на камне, окутанная в темные одежды, потом встает, тихо приподнимая с лица покрывало. Горная местность, вокруг луговые склоны, утесы, увитые плющом. Изредка звуки свирели вдали. Нашедшее облако медленно расходится. Она провожает его глазами»199.
Облако в данном отрывке явно символизирует Зевса, плющ и свирель — атрибуты Диониса. Затем следует монолог Ниобеи, в котором она говорит о своем желании стать камнем:
… И любезны мне
Покой недвижный, и престол холодный скал,
И ткани темной вкруг главы поникшей тень,
Но вожделенней камнем стать меж скал немых!200
96 Следующая ремарка: «Ниобея садится под скалой поодаль, опустив на лицо покрывало. Хор вакхических женщин, вступив в орхестру, окружает жертвенник Диониса в сдержанной, важной пляске»201.
Сцена, полная знаковой статики, сменяется ремаркой, указывающей на религиозно-мистериальный характер предлагаемого действия: «сдержанная, важная вакхическая пляска» вокруг жертвенного алтаря.
В мистерии Иванова она имеет знаковый, условный характер: в античном театре уже времен Эсхила и Софокла жертвенник находился посреди орхестры и не имел живого культового значения. Жертвенник не обыгрывался во время представления, и вокруг него не исполнялись песни и пляски в честь Диониса. Глубокому знатоку античности Вяч. Иванову это должно было быть хорошо известно.
Далее идет сцена религиозного призывания «духа святого» — Диониса. Интересно то, какими словами происходит этот призывание:
Хор
Строфа 1
Яр-бог, яр-бог, тур-Дионис!
Склоненьем цветистого Тмола
Низринься на сонм священный!
Понурого стада буй-бык
Буй-бог, буй-бог, тур-Дионис! (вариант ИРЛИ).
Уклоном пьяного Тмола
Низринься на сонм священный!
О чистого стада Яр-бык! (вариант РГБ).
Антистрофа 1
Явись, явись бог-Дифирамб!
Иль гроздем и плющом земным,
Иль ясной увенчан митрой,
Явись, о фиалкокудрый,
Эвой, эвой —
Буй-Дифирамб <…>
Предводительница хора
Ни фригийские чары развеличивых флейт,
Ни лидийских нег заунывный лад
Из неправых уст не угодны тебе:
Сердце чистое, бог, мне созижди!
Иванов цитирует здесь 12-й стих 50 псалма: «Сердце чистое созижди во мне Боже!» Использование такого рода символа (сердцевина евхаристического 97 канона православной литургии — евхаристическая молитва священника, произносимая в алтаре перед благословением Святых Даров: «Сердце чисто созижди во мне Боже, и Дух прав обнови во утробе моей») могло, по мысли Иванова, призвать потенциального зрителя (читателя) к участию в этой мистерии-литургии.
Это кульминация жертвенного действа трагедии, высшая точка мистерии.
Предводительница Хора совершает ритуальное трехкратное призывание «святого духа» — Диониса, которого здесь величают всеми возможными именами: Вакх, Бакхей, Бромий (шумный), Лиэй («освобождающий»), Вакх, бог-Дифирамб — отсылка к понятию всепроникающего божественного духа, наполняющего всю природу.
Хор
Строфа 2
Влажный дымится дол,
и амвросией дышит грудь,
Эвий!
Антистрофа 2
Твой дождь шумит: смертная грудь чревата,
О Дионис, тобой!
Бога, бога вместила я!
Кто я, бога, бога полна? <…>202
Возможно, «амвросий» — напиток богов, который Тантал похитил для людей, эту мысль Иванов развивает в своей трагедии «Тантал».
В разгар этой священной пляски предводительница хора видит неподвижную фигуру Ниобеи. Сохранившийся отрывок весь посвящен диалогу Ниобеи с хором (а хор для Иванова — всегда носитель стихийного коллективного «дионисийского» начала), с предводительницей хора — в данном случае Жрицей Дионисова культа. Она «ведает высокий смысл» — «свет» и в какой-то степени является выразительницей религиозно-философских идей автора. Видимо, для Ниобеи возможен путь преодоления своего индивидуализма, «нисхождения», все речи представительницы хора подводят ее к этому, но что случится дальше, нам неизвестно, отрывок обрывается. Хотя, может быть, все же Иванов не отступил бы от традиционного окончания древнего мифа о Ниобее — превращения ее в камень.
Обратим внимание на ключевой символ данной трагедии.
98 В 354 строках отрывка слово «камень», «каменный», «каменеть» встречается 11 раз, не считая производных от него символов — скал, горных склонов, утесов, «неподвижных изваяний». Наиболее выразительные образы:
Ниобея
«Вожделенней камнем стать меж скал немых!»
«Молчи! Немею. Камень я. Молю, молчи!»
«Ужас каменит меня».
«Приди мне грудь окаменить, отчаянье!»203
Затем следует указание на то, что может растопить «каменное сердце» — религиозный экстаз, дионисийское «соборное» действо:
Хор
Светочей отблеск, отгулы хоров,
Бог, упоенья твои познавшей
В сердце востепели былым восторгом,
В окаменелом!..204
И очень важная для понимания главной идеи Иванова мысль этого отрывка — в совместном возгласе хора и его предводительницы.
Хор
Ипорхема
Где я? где я?..
Влаги, влаги, влажный бог!
Я скалой застыла острогрудой,
Прорезая черные туманы.
Их вотще вершиной рассекаю,
Высекаю луч из хлябей синих.
Ты блесни, полосни
Зубом молнийным мой камень, Дионис!
Млатом звучным источи
Из груди моей застылой слез ликующих ключи!
Предводительница хора
Могучею, о чужестранка, Дионис
Дохнул мне в грудь свободой <…>205.
Данный отрывок с небольшими изменениями был включен Ивановым в стихотворение «Менада» (1906), ставшее популярным среди поэтов-символистов. 99 Исходя из религиозно-философских взглядов поэта, трагедию Ниобеи можно истолковать как трагедию застывшего в своей избыточности индивидуального, замкнутого самодостаточного существования.
И, наконец, два раза встречается символ «камня» в рассказе Ниобеи о своих детях. В этом же рассказе присутствуют и такие важные для Вяч. Иванова символы, как «море» (здесь — «море любви») и «челн» (здесь — «челн души»), к тому же рассказ усложнен еще и символикой «сна»:
Ниобея
<…> И видит светлость спящих… Дрогнет сон ресниц —
И взгляд, прямой, разверстнется: свой образ мать
Мешает с призраками, встречными душе,
Порхающей по гротам снов улыбчивых;
Зарю полуотверстых уст, увлажненный
Амбросией покоя лоб — лобзанием
Отронет легким; и доносит лепет: «мать» —
Вздох сладкий из челна души, подмытого
Прибоем новым сонных волн, от берега
Любви далече… Бьет в свой берег мерная
Зыбь полноты почиющей, и слышит мать
Биенье и дыханье, и над жизнью бдит,
Бессонным сердцем в жарких персях спящих бдит…
О, сердца бдящее биенье! <…>206.
Итак, главный символ трагедии «Ниобея» — символ камня. Не последнюю роль играют также «море любви», «челн души» и сон. (Символика сна, производная от символа зеркала, символа — «двойник», «тень», «призрак» — очень важна и в трагедии «Тантал»).
Любимый прием поэта — усиление символа — «возведение в квадрат» — «каменея каменишь», «каменея каменею». В данном отрывке «Ниобеи» таких удвоенных, усиленных символов очень много (например: «света свет и ночи ночь») и даже утроенных («где скорбь скорбящих? Я скорблю, единая»). И совсем «классическая» для Вячеслава Иванова строчка: «О свете той, чьим светом буду я светла». Это укрупняет символы, делает их не только более «зримыми» и «иероглифичными», но и в несколько раз более статичными. Недаром А. Белый сравнивал строки «Кормчих звезд» с булыжниками, а С. С. Аверинцев употребил по отношению к этой поэзии эпитет «каменная», называя Вяч. Иванова «камнерезом», при этом подчеркивая, что слова поэта имеют почти вещественную и очень тяжелую конкретность.
100 Попытаемся разобраться в том, что означает символ камня у Вячеслава Иванова — поэта, опирающегося в своем творчестве на древнюю сакральную традицию и предание, и, в частности, розенкрейцеровскую символику.
В этой традиции существует пять основных священных символов: металл, камень (или земля), вода, воздух, огонь. В этих символах выражаются все древнейшие представления о взаимоотношениях человека-субъекта с объектом-миром и сверхобъектом — Богом.
В этих представлениях металл символизирует полную зависимость и полную поглощенность действующего субъекта тварным миром. Камень или земля — символ, который указывает на актуальную поглощенность и наличие скрытой потенции к преодолению этой зависимости (земля дает ростки и поглощает воду, камень — поднимается над водой и может крошиться, превращаться в пыль). Вода — символ перехода от материальности, тварности к свободе. Воздух — символ недовершенной освобожденности. И огонь — символ полной свободы и одновременно достижения власти.
В трагедии «Ниобея» главный символ — камень, в «Прометее» — огонь. Центральный символ всего поэтического творчества Иванова — вода. Вода — это символ перехода (или «истока»), над которым, вслед за Горацием, поэт видит божественный путеводительный маяк — «кормчие звезды».
Океан, окружающий Землю, в античной мифологии имеет только один берег. Переход через океан — это переход, который не может завершиться никакой землей, переход от мира всяких зависимостей к миру, миру, в котором нет «ни эллина, ни иудея», ни раба, ни господина, ни говорящего, ни слушающего, ни профессионала, ни дилетанта.
Не случайно вода — символ крещения, а символом более священного крещения является огонь. В мифах народов мира поединок героя с драконом или хтоническим существом — мировым хаосом всегда происходит на берегу моря или реки. Соответственно этому в мифологии и в поэзии появляется очень много синкретических символов: лед — камень, образованный из воды, снег — замерзшая вода, или вода, поднятая в воздух и т. д.
Еще одна важная оппозиция, присутствующая во многих мифологиях, — оппозиция символов моря и дома. Море — символ перехода, т. е. мира, в котором царит неопределенность. Все, что хотел бы достигнуть герой в этом пространстве, достигается в поединке, конфликте. Дом — некое замкнутое пространство, в котором царят твердые, установленные законы, а свобода достигается их выполнением.
101 Мужчина связан с символом моря, женщина с символом дома. Символ, соединяющий эти два пространства, — символ корабля (самые известные корабли — противоположные символы — Ноев ковчег и символ XX века — «Титаник»). Символы корабля и рулевого-поэта, призванного «сомкнуть творения предгорнее звено», являются смыслообразующими у Вяч. Иванова.
Существует еще одна древняя традиция истолкования символа камня. В этой традиции образ камня, или превращения в камень, окаменения связан с идеей утраты плодотворной животворящей (в основном мужской) силы. В этом круге идей находится самый широкий спектр художественной образности и символики — от скалы (в качестве наказания), вечно нависающей над Танталом, до символики «Каменного гостя» Пушкина.
Интересные замечания по этому поводу приводит сам Иванов: «Миф о Дон Жуане я понимаю так, что Каменный Гость, который увлекает его за собой, есть собственно окаменение Жуана. Именно таков и должен быть конец блудника. И по законам Ветхого Завета блудницу побивают камнями. Камень — символ фаллоса <…> Характерно, что камень всегда воплощен в мужчине, одна Ниобея, окаменевшая в этом, не представляет исключения, ибо она, во-первых, внучка Тантала, а во-вторых, в ней начинается новый процесс размягчения камня, камень плачет, камень-пламень становится камнем-влагой»207.
Таким образом, мифологический образ Ниобеи для поэта — символ «размягчения камня» — изживание греха индивидуации путем саморазрушения (жертвы).
Предводительница хора в трагедии Иванова — жрица — выразитель его главных идей, священнослужитель и «поэт», тот самый поэт, который призван «разрушить барьер с “чернью”».
В «Ниобее» главный образ — женский (в том числе и образ Хоревта). В «Тантале» главный характер — мужской, в «Прометее», наряду с главным героем, действует его женский двойник — Пандора.
У Вяч. Иванова существовала своеобразная теория женского двойника, имеющегося у каждого человека. В поэзии и отчасти драматургии это выражается в большом количестве «зеркальной» символики. В книге «Разговоры с Вячеславом Ивановым» М. Альтмана приводится рассуждение поэта о Джоконде: «<…> Относительно ее у меня составилось следующее мнение, что все ее черты лица (и в особенности улыбка Джиоконды) суть черты лица самого Леонардо да Винчи <…> А вывод из этого такой, что в известное время Леонардо встретил в лице совершенно чужой ему, но вполне реальной Моны Лизы своего полного физического 102 (а, следовательно, и психического) двойника. Никакой любви к Джиоконде Леонардо не испытывал, как потому, что он вообще женщин не любил, так и потому, что любят противоположное. Но интерес его к своему двойнику был, конечно, необычаен. И он потому так медленно (в течение семи лет) писал этот портрет, что он не мог оторваться от этого необычайного зрелища»208.
При параллельном изучении трагедий «Тантал» и «Прометей» выявляется общая тема, связанная с пониманием трагического в философии Иванова, с поправкой на исторический контекст и внутреннее развитие взглядов поэта (годы издания — «Тантал» — 1905 г., «Прометей» — 1919 г.). Общая тема трагедий — грех отъединенной замкнутой индивидуации, саморазоблачение титанического люциферического начала. Герои — мифологические богоборцы, понимающие свободу как своеволие — архетипы грехов, непоправимо разрушивших изначальное космическое единство.
Общая установка Вячеслава Иванова — создание новой формы символической драмы с опорой на античную трагедию (вышедшую из религиозного жертвенного обряда и не утратившую до конца свои сакральные ритуальные корни, но развивающую эту мифоритуальную традицию с учетом современного «экзистенциального» человеческого и театрального опыта).
При сходстве этих устремлений пространственно-временной принцип организации трагедий у Иванова разный.
Композиция «Тантала» статична, «Прометея» — динамична. В первом случае композиция имеет сферическую «солнцеподобную», зеркально-взаимообратимую структуру, во втором — треугольную, имеющую вид угла между падающими на зеркальную поверхность и отраженными от нее лучами. И в том, и в другом случае эта символика имеет многоуровневое и основополагающее значение.
И в той и в другой трагедии кульминацией действия является жертвенный ритуал — символическая квинтэссенция главной идеи, высшая точка дионисийской экстатической трагедийной катарактики. Но, обращаясь к мифологическим образам Тантала и Прометея, Иванов, как всегда, использует различные варианты необходимых ему мифов.
Кроме того, эти образы сами по себе многовариантны, коллизийны, незакончены, дуалистичны и амбивалентны (в отличие, например, от «беспроблемных» в этом смысле Зевса, Афины или Аполлона) и еще со времен античности привлекали к себе внимание мыслителей и поэтов, искавших в них архетипы человеческого поведения и «вечные вопросы» «человеческого выбора».
103 Обратимся сначала к трагедии «Тантал», задуманной в 1903 году и опубликованной в 1905 году в издательстве «Скорпион» в IV выпуске альманаха «Северные цветы» — «Ассирийские».
В «Разговорах с Вячеславом Ивановым» М. Альтман пишет, что поэт считал трагедию «Тантал» одним из лучших своих произведений: «Знаю только, что вот “Тантал” Вячеслава Иванова — это произведение хорошее (два только примечания нужно сделать относительно него: первое, что сцена с Бротеасом выдержана психологически, в то время как все остальные выдержаны классически — в масках, и, второе, что я развил, хоть это отнюдь не беда, идею Ницше о трагедии Солнца: всеозаряющее, и само слепое, вседающее, и само не могущее брать), и Андрей Белый был прав, когда при разборе меня взял исходным и центральным пунктом “Тантала”»209.
Трагедию высоко оценили В. Брюсов, А. Белый, А. Блок, Ф. Зелинский, Г. Чулков, Е. Герцык, В. Мейерхольд.
Сюжет трагедии построен на основе контаминации античных версий мифа. Это приводит к расширению «событийных» возможностей пьесы и углублению ее смыслового пространства, поэт актуализирует мир античного мифа путем создания сложной цепи смысловых символов.
Обнаружение древнего архетипа идеи, усиление путем установления ее многочисленных смысловых возможностей дает искомый художественный результат — новую версию старого мифа. Иванова интересует не историческая реконструкция античной трагедии, а ее «современный подтекст», который вытекает из постоянного круга его философских тем — «вечного возвращения», «многозначности» истинного символа, «реалистического символизма» — отражения Реальнейшего.
Согласно античному мифу (версии Пиндара, Аполлодора), Тантал, сын Зевса, пользовался особой благосклонностью богов. Он был удостоен большой чести для смертного — ему было разрешено принимать участие в их собраниях и пирах. Тантал отплатил за это неблагодарностью: по одному варианту — рассказал людям об услышанных решениях Зевса, по другому — похитил пищу богов — нектар и амбросию и угощал ими людей. Чтобы проверить всеведение богов, он пригласил их к себе и угостил мясом своего сына Пелопса. В одной из версий Тантал спрятал золотую собаку из критского храма Зевса и совершил клятвопреступление.
За все это он был обречен на вечные муки (всем известные «танталовы муки»): стоял по горло в воде и изнывал от жажды, так как вода, когда он хотел напиться, отступала от его губ; над ним свисали спелые плоды, а он страдал от голода, так как ветви с плодами, едва он протягивал 104 руку, отодвигались; над ним нависала качавшаяся скала, которая грозила в любой момент обрушиться и раздавить его.
Другие персонажи трагедии Иванова — Бротеас, Пелопс (сыновья Тантала), а также Сизиф и Иксион — герои разных античных мифов.
О Бротеасе известно лишь то, что он хвастался, что ему не страшен огонь, был за это наказан богами безумием и бросился в огонь.
Пелопс знаменит тем, что после того, как Тантал разрубил его на части и подал на стол богам, был собран Гермесом вновь. Гермес опустил рассеченные части тела в котел с кипящей водой и оживил Пелопса. Недостающее плечо, которое съела Деметра, пришлось сделать из слоновой кости. Поэтому все потомки Пелопса имели белое пятно на плече (версии Пиндара, Павсания).
Сизиф — необычайно смелый и хитроумный герой, постоянно вступающий в конфликт с богами (об этом свидетельствует множество источников). Сизиф обхитрил даже Тартара, заковав его и продержав в плену несколько лет, в течение которых люди не умирали. Сизиф совершал набеги, грабил и убивал путников. За свои преступления он был обречен на тяжкие муки в Аиде: он должен был вечно вкатывать на гору тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, срывался вниз.
Иксион — фессалийский царь, при женитьбе он обещал большой выкуп за свою жену, но не сдержал своего слова, а потребовавшего подарки тестя столкнул в яму с горящими углями. Зевс простил его и пригласил к себе на Олимп. Иксион стал домогаться любви Геры. Зевс создал призрак Геры из облака (вариант: заменил ее Нефелой). От этой связи появились на свет кентавры. Когда Иксион стал хвастаться победой над Герой, по приказанию Зевса он был привязан к вращающемуся огненному колесу и заброшен на небо. В мифе об Иксионе чаще всего акцентируются древние представления о силе стихий (наиболее ранняя литературная фиксация мифа об Иксионе — у Пиндара). Тем не менее сюжет мифа почти не находил воплощения в европейской драматургии (исключение: трагедия И. Анненского «Царь Иксион»).
Сюжет трагедии Иванова «Тантал» не расходится с основными линиями античных мифов; он многослоен, многозначим и требует не пересказа, но дешифровки.
Самый распространенный образ в этих мифах — образ протянутой руки — символ его вечной муки. Тантал страстно хочет дотянуться до чего-то, но достичь этого никогда не сможет. Этот вечно неудачный захват самого необходимого — противоположное отражение его прежнего всемогущества, всеобладания, а также — его удачного захвата — 105 похищения вечной жизни (пищи богов). В результате Тантал получает не бессмертную жизнь, а бессмертное страдание.
Весьма интересна этимология имени «Тантал». Буквальное значение глагола «tan» — «тянуть», что в данной традиции означает формирование вселенской пространственно-временной длительности, главное мифо-космологическое действо (т. е. сотворение мира). В ритуале жертвоприношения постоянно воспроизводится первичный космогонический акт. Жертва, «уходя» на небо, «протягивает» нить — устанавливает символическую связь земли и неба.
Таким образом, главный аспект жертвы — ее «протянутость» к богам, в ответ этой добровольно протянутой нити устанавливается обратная связь. Нить — символ двустороннего диалога. Тантал был призван быть такой связующей нитью (жертвой, посредником) между небом и землей, между богами и людьми, но он поставил себя на место богов, решив даровать людям бессмертие от себя. Тантал приносит жертву, не угодную ни людям, ни богам, он — средство, которое мнит себя источником и целью. Его установка крайнего индивидуализма — это установка на вечный захват, идущая от невозможности ограничить свою самость. Его символом становится символ рук, протянутых на захват и насилие. Противоположностью этому образу — рук, протянутых для себя в вечном неудавшемся захвате, является образ других рук — простертых на кресте, к другим — образ вечной Жертвы, обращенной ко всем людям.
В своей трагедии Иванов пользуется глубинным слоем древнего мифа, но дополняет его новыми сюжетными линиями, выстраивая объемную мифологическую конструкцию. Поэт представляет в трагедии весь путь мировой истории — от первого шага грехопадения — осознания себя как зеркала мира до осознания мира как зеркала себя. Путь человека, прошедшего искушение «кантианства»:
<…>Я зеркалом
сиял недвижным, и в меня гляделся мир
(но зеркалом моим был мир воистину)210.
В этом контексте можно истолковать смысл «танталовых мук» следующим образом: нельзя достичь вожделенного предмета, если предмет этот — лишь отражение в зеркале.
Этот путь — путь познания своего одиночества. Примечательно то, что это будущее наказание дается в начале трагедии как сон Тантала. Сон — отражение действительности. Символ зеркала удваивается, укрупняется, миф Иванова приобретает свойственную ему многоуровневую, многозначную структуру.
106 Сон Тантала дается в самом начале трагедии, когда герой находится в высшей точке восхождения. Тантал изобилен и преизбыточен, и если путь восхождения у Иванова стоит под знаком «брать», то в этой точке, в которой находится Тантал — точке зенита, брать уже нечего. Трагедия начинается следующей ремаркой: «Вершина горы, вдали, озарена первыми утренними лучами. Облако, тая, являет горный склон, и высеченный в скале престол, и царя на престоле»211.
Наиболее значимые символы здесь — восход солнца, гора — горный склон — скала, знаковое одиночество царя. Речью этого царя-протагониста и начинается действие (хор еще не появился).
В самом начале (и в самом конце) это состояние одинокого изобилия обозначено как статическое: младенец Тантал — сын Зевса и богини обилия Плуто от рождения обладал всем, к чему бы ни тянулся. Данная композиция отражает совмещенность изначального младенческого состояния Тантала с его нынешним, с целью, которая извечно осуществлена. В конце трагедии — ремарка, в которой дается описание реального наказания Тантала: «Во мраке становится видение висящего в воздухе Тантала. Обеими руками он поддерживает нижний край огромной потухшей сферы»212.
Реальное наказание в трагедии — вечное отражение, «танталовы муки» — навечно осуществленный «мертвый захват» мертвого потухшего солнца. Вечная замкнутость в самом себе — вечная статика одиночества. В этом смысле вечная ночь — отражение вечного полдня.
Действие начинается с восходом солнца и заканчивается на закате, схема трагедии может быть обозначена символом дуги. Дуга — часть круга, по Агриппе Неттесгеймскому — символ женского начала творения. В средневековой традиции дуга символически обозначала чашу — чашу Грааля, чашу с эликсиром жизни, которая проливается на землю, оживляя ее. Дуга — символ возрождения, а также символ покоя (упокоения, смерти для новой жизни) в лоне матери-земли («мать-сыра земля» — еще один любимый символический образ Иванова).
Символ дуги принадлежит к так называемому циклу «солнечной» символики. Солнце — главный символ трагедии «Тантал». Как уже было сказано выше, поэт подчеркивал, что развивает в своем произведении идею Ницше о «трагедии солнца». Одинокие солнца, замкнутые в свой свет, сами поглощающие пламя, которое из них исходит, не знающие «счастья берущего» — образ ницшеанского Заратустры. Отталкиваясь от идеи Ницше, Иванов развивает в своей трагедии тему несостоявшегося диалога.
107 В образе Тантала представляется ключевая идея поэта — гибельность замкнутого «Аз есмь» при невозможности раскрытия «Ты», невозможности самоумаления-кенозиса и нисхождения — благодатного воскресения к новой жизни. (Кстати, антиномия «брать-давать» — самый простой и выразительный «иероглифический» символ диалога «я — Другой»).
«Солнечная» тематика очень популярна в начале XX века. «Будем как Солнце!» Бальмонта, стихи А. Белого, Ф. Сологуба и, конечно, «солнечные циклы» Вяч. Иванова в сборнике «Cor Ardens», задуманном в 1905 году. Это цикл «Солнце-сердце» (стихотворения «Хвала Солнцу», «Хор Солнечный», «Солнце», «Завет Солнца», «Псалом Солнечный», «Солнце-Двойник»), циклы «Солнце Эммауса», «Северное Солнце», сказка «Солнцев перстень».
В статье «Кризис индивидуализма» («Вопросы жизни», 1905, № 9) поэт описывает трагедию гордого уединившегося индивидуального сознания, «богоборство обиды» и «богоборство исполнения» в символах «Солнца-избытка». «“Макбет” — трагедия голода и нищеты, “Лир” — изобилия и расточительности, тот — планета, восхотевшая засветиться заемным светом; этот — солнце, истекающее всею своей божественной кровью, не вынесшее своего тяжелого золотого избытка. Эти два пафоса — два основных трагических мотива индивидуализма <…>»213.
Символика Солнца сложна и имеет эзотерический смысл во многих религиозных и мистериальных культах. Вяч. Иванову это было, безусловно, хорошо известно и чрезвычайно его привлекало. Так, в сказке «Солнцев перстень» он развивает мистическое учение о солнце подземного мира — солнце мертвых, так называемом скрытом ночном солнце, которое является истинным светилом, в то время как обычное земное солнце — его призрачный двойник.
Символика Солнца типологически связана, с одной стороны, с символикой царя-первосвященника, с другой — с культом металлов (в одной из древних мифологических традиций возникновение Солнца описывается как результат погружения меди в огонь костра). В мистериях различных религий Солнце — вечный символ озарения. Интересно, что главный «мифологизирующий» эпитет-определение, которое было присвоено Иванову современниками, — «Солнечный», «Великолепный», «Царский». Необходимость саморасточения, жертвы — личный, современный «подтекст» древнего мифа, той традиции, опора на которую для Иванова — единственно возможное условие личного поэтического творчества.
108 В «Тантале» этот субъективный уровень трагедии может быть выделен достаточно четко. Трагедию предваряет посвящение Л. Д. Зиновьевой-Аннибал на греческом языке: «Тебе, вакханке, со мной единенной в культе Вакха и Муз, красивый дар двух тирсов, а богу вакхические моления»214. Выше было сказано о двух «мистериях» поэта — смертельной болезни, преодоленной с помощью Лидии, и пережитый кризис, связанный с приступами удушья, — «узлы змеи», которые Иванов изживает в процессе написания трагедии «Тантал».
Изживание индивидуации происходит через катарсис. Иванов представляет нам трагедию «Тантал», герой которой в своем статичном избытке не подвергается такого рода экстатическому дионисийскому воздействию.
Образ Солнца в античной мифологии связан также с образом Аполлона. Тантал — воплощенное аполлонийское начало, которое без дополнения его «дионисийством» четко определено как люциферическое.
Античный слой мифа дополняется библейским, в частности христианским, — образ неправедного захвата бессмертия и дара его людям, лишенным права выбора, и ложная греховная жертва (сына Тантала от небесной матери — Пелопса) — желание «рассчитаться» с богами является зеркальным отражением жертвы истинной.
Высший миг трагедии — это полдень, час жертвы — соединение горнего и дольнего мира. В момент жертвы зажигается радуга — символ завета, брака земли и неба — отражение солнечной дуги. Свет радуги отражается в чаше с амбросией — еще один символ Солнца. Этот многозначный символ «чаша-солнце — Тантал» собирается в этой сцене в символ «луч глубин», он видится Бротеасу (сын Тантала от земной женщины, его низшая, земная часть) как «дверь в хаос синий и паденье вечное», как «луч суда», «меч голубой»215. Отметим, что синий цвет — богочеловеческий цвет, символ Христа.
Бротеас разбивает чашу с бессмертием, капли амброзии из разбитой чаши (символ Диониса, растерзанного титанами) подхватывает стая голубиц и уносит в небо.
Трагедия «Тантал», как и «Ниобея», написана ямбическим триметром. При этом структура и стилистика языка так же усложнена и утяжелена, как и в «Ниобее», что, очевидно, связано с задачей особой пространственно-временной организации действия, создания особого ритма «дионисийского» «соборного» действа, сердцевиной которого является ритуал жертвы.
Обратимся, например, к одной из главных тем трагедии — теме избытка. Эта тема связана с идеей отсутствия ограничения формой, это 109 всеобщее и универсальное, без единичного. Это замкнутая самодостаточность, в которую не может проникнуть ничто, находящееся вне его. Такая непроницаемость делает невозможным саморасточение избытка, делает объект неспособным увидеть в другом не приложение своих сил, а субъект (т. е. самого себя). Это также и тема таланта, тема поэта, не способного на «соборный» диалог с толпой.
Развитие этой темы в трагедии происходит с помощью сложной метафорической конструкции, в которой многократно используется главный символ этой темы — избыток. С этого начинается трагедия.
Тантал
Встань, Солнце, из-за гор моих! Встань озарить
избыток мой <…>
Встань, око полноты моей <…>216
Хор
Ты красуйся, Тантал — царь,
избытком смеющимся
Геи — Всематери <…>217
Далее следует диалог Тантала с протагонистом хора:
Предводительница хора
Аль ты богов богаче, Изобилья Сын?
Тантал
Чего б алкал я, тем я сыт. За чем бы длань
простер, — на лоне. Наводнил избыток мой
желаний поймы <…>
от исполненья гладей, из избытка тощ <…>218
Здесь же Тантал называет свое имя: «Зовусь: Избыток; и слыву: Богачество», «Обилья Сын»219. Слова «избыточный», «избыток», «обилие» встречаются порой по нескольку раз на одной странице трагедии, перенасыщая ее смысловое поле своей прозрачной символикой.
Первоначальное одиночество Тантала — царя на троне, находящегося на вершине горы, в скале, разрешается появлением хора, который произносит славословие — приветствие богу-Солнцу.
Хор
Слава Солнцу высокому, слава!
Мы сплели тебе, Тантал-царь, венец
Из росистых роз, из душистых роз, — слава!
От медвяных ключей, из румяных лучей
110 Мы несем
тебе, Тантал — царь, венец, —
Тебе митру солнечной славы!220
Примечательно, что цвета — золотой, рдяный, лазурный и цветы — крокусы, лилии, розы имеют сакральный смысл. Это символы высшей верховной власти — либо царской, либо жреческой.
В диалоге Тантала и хора заявляется важная тема трагедии: Тантал не хочет принимать дары, предлагаемые ему богами. В то же время он сам хочет принести жертву — своего бессмертного сына Пелопса, то есть свое бессмертие. Затем следует рассказ Тантала о сне, в котором описывается будущее наказание и будущие «вечные муки»:
Палила жажда мне гортань; а я стоял
по горло в чистых, как эфир, водах речных.
Запекшиеся разевал, вод захлебнуть,
уста: уст мощных чьих-то дуновение
напухшей зыбью отдувало влаги сткло
от пещи рта <…>221
Этот монолог Тантала создает яркий зрительный образ. Произнесение же этой тирады требует совершенно определенной актерской декламаторской техники, а разгадка зрителем столь выразительного, столь необходимого для данной трагедии образа-символа требует определенных сил и времени, но тут к этому символу уже примыкает следующий и т. д., превращая процесс экстатического «жертвенного» служения в процесс дешифровки и напряженного, внимательного наблюдения-вслушивания.
В этом же «сонном видении» возникает еще некий женский образ, к которому призывает Тантал и от которого он будет навеки отлучен.
Тантал
Тогда, о девы, тронул ночь Безликой стон
из глуби полой, глухо, как беззвучный ветр:
«Из солнца солнце. Горе солнцу. Бог богов
родил. Возжегший смеркнет. Я была твоей»…222
Существует еще один вариант мифа о Тантале: Тантал не только лишен живоносной влаги и пищи и находится под вечной угрозой быть раздавленным скалой. Тантала лишили женщины не только возможности жить, но и давать жизнь, в наказание за то, что он лишил жизни свое дитя — бессмертного Пелопса — свое бессмертие. Тантал как бы «застрял» в ситуации вечного перехода, это движение по кругу: он стоит по пояс в воде и «новая жизнь» для него никогда не наступит.
111 Тантал — исходное, преисполненное, замкнутое в себе «Аз есмь». Не хватает «Ты еси» — отражающего зеркала, хотя зеркал в трагедии имеется огромное количество.
Зеркальные близнецы братья — сыновья Тантала Бротеас и Пелопс, зеркально сдвоенные в едином мистериальном пространстве совершенно разные мифологические персонажи — Сизиф и Иксион.
Иксион для Иванова, вероятно, символ страсти, сжигающей человеческое сердце, не случайно герой подвергается в конце огненной казни. Это огненное, пылающее колесо, к которому он навечно привязан, — отражение погасшего Солнца, которое должен вечно держать Тантал.
Образ Сизифа можно связать с рассудочной частью человеческого сознания, но, по Иванову, он связан и с «ночной» подсознательной сферой человеческого духа. Его казнь — вечно «двигать подъяремный мир»223. Его наказание — отражение в динамике навечно застывшего в статике Тантала.
Иксион и Сизиф — две ипостаси, двойники единого целого (Тантала), им сопутствуют антиномичные, противоположные символы: «день — ночь», «огонь — мрак», «сердце — рассудок», «горящий — потухший», «динамика — статика».
Еще одна «диада» трагедии — два сына Тантала — еще одно его двуединое отражение. Бротеас появляется в трагедии, когда напряжение в ней нарастает, подогревается появлением Гермеса — вестника, зовущего Тантала на пир богов.
Затем первый вестник сообщает о преступлениях Иксиона и наказании Сизифа.
Сцена с Бротеасом действительно выдержана Ивановым «психологически» и полна внутренней динамики. Это стремительный диалог сына с отцом, сына, бросающего отцу несправедливые обвинения и поднимающего на него руку.
Бротеас «мечет копье в Тантала; но, ослепленный внезапно вспыхнувшей радугой, промахивается: копье падает в розы»224.
Ключевые символы этой сцены — гроза и радуга. Сон Пелопса полон символики царственной (божественной) жертвы. Кроме того — это зеркальное отражение сна Тантала.
Пелопс (во сне)
Где я? где мы,
солнцеокий,
тихокрылый?
112 В
золоте, золоте
морей всеодержных
с тобой тону я,
черный челн!225
Иванов приводит параллельные сравнения светлого бессмертного Пелопса и темного, недостойного «земного» Бротеаса («broteas» в переводе буквально означает «смертный»).
В своей театральной теории поэт постоянно выступает против психологических характеров-масок. Герои его трагедий не психологичны, а мифологичны, это образы-мифемы, собирающие в своем символе все пересекающиеся лучи идей автора и отражающие их в сконцентрированном «универсальном» виде.
Но вряд ли можно говорить о том, что его герои есть персонифицированные идеи автора, так как многие из них обладают очень живыми многомерными и противоречивыми характерами. Таков Бротеас, покушающийся на отца, богоборчески отказывающийся от бессмертия, с образом которого в трагедию входит тема свободы, невозможности ее насильственного приятия, непомерной сложности ее внутреннего обретения.
Бротеас напоминает любимых Ивановым героев Достоевского, речь этого мифологического героя полна реминисценций из его романов:
Бессмертным стать!.. О, это будет — возлюбить!
Все возлюбить, и всю любовь в груди вместить,
и все простить! О, это будет — мать лобзать,
святую Землю, и наречь ее своей,
и ей сказать: «Не пасынок отныне я,
и не наемник: твой я сын и твой я свет!..»226
Несостоявшееся отцеубийство — покушение Бротеаса на Тантала — подвигает нас к высшей точке трагедии — жертвоприношению.
Принесение Пелопса в жертву — кульминация трагедии. Это ритуал, священнодействие, в определенном смысле очистительное таинство, полное сакральной символики.
Хор
Ты, Жертва, ты,
красная Жертва, образ мира,
стоишь на кострах горючих! <…>
А в сердце сияет Солнце
страдальных слав: меч обагренный
его пронзает, — и с меча
каплет кровь…
113 Ты
держишь чашу: каплет кровь
в ее края, — они ж полны, —
и держишь Змия.
Бессмертный Змий пастию к чаше
приник — и пьет. <…>
Радуйся, радуга Зевса,
в дыме Жертвы мировой!
В облаке сумрачных нисхождений-рей, улыбка прозрачных пощад!227
Эта песнь хора перенасыщена символикой. Каждое слово в ней — несколько разноуровневых символов. Мистерия приобретает настолько эзотерически замкнутый характер, что начинает принимать в свой круг только единицы посвященных. Вхождение, вживание во время этого действия создает ощущение выпадения из времени, остановки его преходящего бега, что происходит обычно в высший момент богослужения.
Сравним, например, с известным стихотворением О. Мандельштама:
Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.
И евхаристия, как вечный полдень, длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех Божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится228.
Вероятно, возможно яркое театральное решение этой трагедии. Например, музыкальное, аналогичное театральным поискам Вагнера. Так, в работе А. Порфирьевой «Русская символистская трагедия и мифологический театр Вагнера» обнаружена аллюзия центральной сцены трагедии Иванова со сценой финала «Золото Рейна» Вагнера. В трагедии «Тантал» перед нами предстает образ Зевса, с кудрей которого в лоно Земли струится божественная влага, а навстречу с земли к небесам поднимается огонь, образуя радугу — символ Завета. В финальной сцене «Золото Рейна» Доннер и Фро устраивают грозу, заканчивающуюся шествием богов по радуге.
Другая аллюзия обнаруживается в сцене сна упившегося амврозией Тантала. Свет чаши озаряет сонные видения Тантала, так, что он начинает слышать звучащий свет и видеть «мириады звонкозарых звезд», «хороводы огнезвучных солнц». Эта сцена вполне сопоставима с предсмертным 114 возгласом Тристана в момент явления Изольды: «я слышу свет». Взаимный переход света и звука — один из излюбленных образов мистической поэзии.
Другие вагнеровские мотивы в трагедии Вячеслава Иванова: в «Тантале» — вопрошание Адрастеи и ее мифически темное пророчество перекликается со сценами Вотана с Эрдой. Вызов Тантала: «Пусть пьет бессмертие, кто дерзнет испить свой суд» над чашей с амброзией-ядом — со сценами напитка любви-смерти Тристана и Изольды.
Трагедия «Прометей» открывается сценой ковки, обнаруживающей один из своих смысловых планов в противопоставлении кующему меч свободы вагнеровскому Зигфриду. Прометей Иванова кует оковы — «свой плен».
Визуальный образ «Тантала» создается с помощью слова. В зрительском воображении из слов действующих лиц складывается мощная многокрасочная картина, практически невоплотимая реальными театральными средствами. Словесно-ритмическая организация пьесы содержит в себе возможности замены зрелищно-театральных эффектов особой выразительностью и пафосом актерской игры.
Трагедия «Прометей» более сценична, ее символы значительно конкретней и вполне могут быть созданы средствами условного театра. «Пещера», «алтарь», «скалы», деление сцены на три части — дешифровка многих «условных знаков» (при известной зрительской подготовленности) требует меньших усилий, хотя здесь тоже встречаются ремарки типа: «Полоса моря вдали и орхестра озаряются нежным серебристоголубым мерцанием. На орхестру выступает хор Нереид двумя полухориями, последовательно проходящими мимо Прометея из левого входа на орхестру в выход направо. Между обоими полухориями движется морская колесница Нерея, влекомая дельфинами и тритонами»229.
Композиция «Тантала» подчинена созданию символической метафоры жертвенного ритуала, который занимает в трагедии центральное место (точку зенита). В «Прометее» множество ритуальных действий динамично сменяют друг друга, убыстряя сценическое время.
Пьеса разделена на три акта. Уже в первом акте трагедии присутствуют три многозначных, взаимосвязанных ритуала (все три связаны с культом Диониса): бег с факелами, освящение жертвенника, отпускание мертвых по водам на плотах с горящими мачтами.
Таким образом, если трагедию «Тантал» характеризует напряженное внутреннее действие, эпичность, описательность и вытекающая из этого статичность, укрупненная, замедленная пластика, то «Прометей» — 115 это трагедия действия, близкая по форме к традиционной драме, со стремительным развитием внутреннего действа (смысла) и внешнего действия (сюжета).
О том, что Иванов придавал важное значение композиции трагедии свидетельствует и то, что он поместил ее схему в Предисловии ко второму изданию (статья «О действии и действе» 1919 года).
Чтобы иметь ясное представление о композиции построения трагедии, воспроизведем ее полностью:
СХЕМА ТРАГЕДИИ
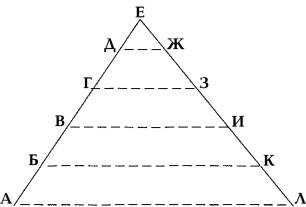
Первое действие, хоровое
(Огонь и Вода)
А. Ковач кует.
Б. Явление морского бога.
В. Покушение Авто дика.
Г. Огненное действо и освещение жертвенника. Учение Прометея и клятва огненосцев.
Д. Тризна. Учреждение мореходства.
Второе действие, замкнутое
(Недра)
Е. Истощение Прометея.
116 Третье действие, хоровое
(Земля и Воздух)
Ж. Обряд сеятелей.
З. Празднование роз и раздача даров. Учение Пандоры и народное голосование.
И. Убиение Пандоры.
К. Явление подземной богини.
Л. Ковач закован.
Итак, последование третьего действия повторяет ход первого в обратном (нисходящем) порядке, так что А соответствует Л, Б — К, В — И, Г — З, Д — Ж, тогда как вершина треугольника Е знаменует срыв титанического восхождения230.
Обратим внимание на то, что треугольник, обращенный вершиной вверх, — эзотерический символ огня, о чем Иванову, конечно, было хорошо известно.
Структура трагедии весьма усложнена, кроме принципа зеркальной композиции, поэт использует здесь и атрибуты традиционной античной трагедии, и полифонизм, и разнонаправленные временные потоки. Все это необходимо ему для создания объемной, «стереофонической» картины мира трагедии, насыщенной философско-психологической проблематикой.
В предисловии — комментарии главным структурно-образующим принципом трагедии названо «действие». Действие для Иванова есть и главное действующее лицо трагедии: «Предлежащее лиро-драматическое произведение есть трагедия, — во-первых, действия, как такового; во-вторых, самоистощения действенной личности в действии; в-третьих, преемственности действия. В общем — трагедия титанического начала, как первородного греха человеческой свободы»231.
Таким образом, если действие — это «решения и поступки характера зачинательного и воленалагательного», то оно противоречиво изначально, по своей сути, как противоречиво само понятие человеческой свободы. «Слова, влагаемые Эсхиловым хором старцев в уста Агамемнона, стоящего на пороге рокового решения: “Что здесь не грех? Все — грех! — заключают в себе целую философию действия: так, по крайней мере, философствует Трагедия”»232.
Прометей — герой, который «слишком хорошо понимает это» («Прометей» означает «Промыслитель»), и это «претит» ему действовать. Иванов называет такое бездействие противодействием. Познание убивает действие — это «учение» Гамлета.
117 Возникновение подобной двойственности связано с распадом первоначальной цельности на множество индивидуумов, с осознанием своего единственного «Аз есмь». С этого начинается путь греха и путь жертвы, который является спасительным.
Следовательно, в самом грехопадении был заложен его извечный спасительный дуализм, его извечное единство жреца и жертвы.
Как всегда Иванов пользуется разными версиями мифов, соединяя древнюю мифологему с современной философией, обращаясь на этот раз и к романтическому психологизму (в основном в трактовке образа Прометея).
Сюжетно-событийная линия такова:
Трагедия состоит из трех действий. В первом действии мы узнаем, что Прометей создал людей из глины, сделанной им из пепла титанов, убитых Зевсом. Эти титаны когда-то растерзали младенца Диониса и проглотили его, поэтому в людях присутствует прах титанов и Диониса. Прометей сотворил людей и дал им огонь, но эти люди лишены «видения будущего».
Таким образом, грех Прометея в том, что, состязаясь с богами, он, сотворив человека, наделил его собственной «тварной» земнородной неполнотой.
Прометей замыслил бунт против Зевса. Ему сообщают о том, что всевидящему Зевсу об этом давно известно, а хор Эринний и Нереид предупреждает Прометея, что созданные им люди обречены на смерть. Но Прометей, принимая все это как неизбежность, тем не менее, подталкивает человеческий род, имеющий божественную искру Дионисова огня, к бунту.
Появляются первые созданные Прометеем люди — Архемор и Архат. Победитель отдает все силы ритуальному праздничному бегу, убив соперника и добежав до финиша, он умирает у ног Прометея. Прометей говорит о брате-жертве, получившем жизнь от Прометея. Он «всех святей лелеял» огонь, создал алтарь и славословил огонь — бога «пением невинным». Брат-убийца бросил его в огонь, чтобы доказать, что бог, которому он поклоняется, не защитит его, а напротив, убьет (перекличка с христианским мифом о Каине и Авеле). Иванов отчасти разрабатывал эту тему уже в «Тантале».
Дальнейшая цепь событий — цепь грехопадения созданных Прометеем людей. Один из героев убивает себя, остальные дают клятву Прометею. Прометей устанавливает для людей порядок жертвоприношений: Зевсу должны быть приносимы худшие части, а лучшие — некоему двойнику Зевса, который называется здесь «Сам».
118 Рассмотрим несколько уровней мифа, предлагаемого Ивановым. Во-первых, мы уже отметили используемый поэтом библейский символизм угодной и неугодной жертвы. Другой слой или уровень трагедии отсылает нас к античному мифу и к античной трагедии, включая эсхиловские мотивы.
Миф о Прометее — один из самых любимых не только в античном мире. В античности же он был символом победы добра над злом, в честь которого справлялись особые праздники — «прометейи» — бег с зажженными факелами. По некоторым мифам, Прометей («предвидящий», «промыслитель») — бог, создавший из земли и воды первых людей. Его представляли художником, вдыхающим в свое творение божественную искру. Тем самым он стал творцом, а его творение стало равным ему самому.
Таким образом, Прометей воплощает стремящийся ввысь человеческий дух, овладевающий стихиями, пробуждающий к жизни с помощью воды «оплодотворенную семенем неба» землю и вдыхающий в нее пламя духа. По Эсхилу, Прометей научил людей строить дома, корабли, овладевать ремеслами, считать и писать. Когда между богами и людьми возник спор о том, какую часть жертвенного животного следует отдавать богам, Прометей встал на сторону людей. Обманув Зевса, он подарил ему худшие куски жертвенного мяса. За это Зевс разгневался на людей и лишил их огня. Прометей вновь похитил огонь для людей с Олимпа. За это Зевс велел Гефесту приковать Прометея к горам Кавказа.
Прометей попадает в круговорот смерти и нового рождения: орел (или коршун) — символ Зевса, выклевывает днем его печень, которая за ночь снова вырастает. Греки считали, что печень — местопребывание страстей, которые, хотя и могут быть укрощены духом, однако снова и снова восстают против него. Через тысячелетие Геракл, с согласия Зевса, убил орла и освободил Прометея. Он посоветовал Прометею носить камень с Кавказа, оправленный в кольцо, чтобы наказание Зевса все же исполнялось. Таким образом, свобода Прометея в античной мифологии все же является неполной.
В работе А. Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство» рассматривается символическое значение образа Прометея в разное время: «Если мы будем внимательно читать трагедию Эсхила, то на месте огня появятся также и понятия достоинства, власти и чести <…> Дело здесь вовсе не в огне, а в эволюции отдельной личности, которая хочет действовать самостоятельно, то есть вполне сознательно и вполне индивидуально»233.
119 В мифологии Гомера образ Прометея отсутствует. «Дело в том, что Гомер, — пишет А. Лосев, — это царство самого строгого и принципиального героизма, который является продолжением дела Зевса. Здесь, конечно, не место Прометею. Прометей мыслится в это время лишенным всякой власти и прикованным где-то к пустынной скале на краю тогдашнего географического мира»234.
Не случайно, что в эпоху культа разума, рассудка, человеческого достоинства и вообще всего «человеческого» Прометей становится любимым героем, а выражение «факел Прометея», «Прометеев огонь» — символом всего положительного и позитивного.
Вячеслав Иванов размышляет о человеческой свободе, об искушении властью человеческого рассудка в начале XX века, при этом эсхиловские мотивы богоборчества становятся для него очень важными. Отметим, что в это время — 1914 – 1915 годы, поэт занимается переводом Эсхила.
Прометей сотворил человека, состязаясь с богами, предвидя их трагическую участь:
Я им затмил прозренье зол грядущих,
Вселил в их сердце льстивые надежды <…>
Союзников слепых слепил из глины235.
Плод такого творения — «семя распри», титанизм, оковы ненавистной жизни, смерть.
В многозначной символике трагедии своеобразно используются различные мифологические образы Эсхила. Так, овод Ио, который присутствует у Эсхила, отражен у Иванова в образе коршуна, преследующего Прометея. Это призрак Зевса, неотступно терзающего отступника:
Чтоб ты терзал, пытая, Прометея,
Судья и клеветник, палач и друг,
И миг свершенья отравлял укором,
И — неотступный овод в полдень белый —
Вперед бы гнал, без отдыха вперед
Едва достигшего на подвиг новый…236
К «эсхиловскому» пласту трагедии поэт добавляет миф о пожирании Диониса титанами, совмещая его с оригинальным изложением орфической космогонии. Главным мифологическим символом трагедии является орфическое предание о смерти Диониса. Человек — это прах титанов, он соединяет в себе титаническое начало и искру божественного творческого Дионисова огня.
120 Если в трагедии «Тантал» подчеркнута «избыточность» героя, его нерасточающаяся, статичная полнота, то в «Прометее» смыслообразующим понятием является понятие «греха» и «греховности». Смысловая насыщенность этого понятия достигается двумя путями, во-первых, причастностью к греху самого хора, во-вторых, — усилением вины, «греховности» героя.
Грех Прометея был совершен еще до начала действия и явился предпосылкой для распада хора.
Если мы внимательно посмотрим на начало трагедии, то убедимся, что перед нами не «хор», а множество обособленных «я». «Программа» этой «толпы» индивидуумов — осознанный богоборческий бунт:
Мы выи не клоним
Под иго Атланта,
Но мятежимся нивами змей;
И ропщем, и стонем
В берегах адаманта,
Прометей!237
В трагедии Иванова — символически значимое нарушение эсхиловской традиции, традиции монологичности хора. Хор Эсхила выступает от имени «я». Употребляя 1-е лицо множественного числа — «мы», поэт заявляет об изначальной раздробленности хорового тела, что в его концепции является прямым следствием индивидуалистического титанического богоборства.
Еще один значимый символ — «нивы змей» — символ водной стихии, составленный из двух слов, относящихся к стихии земной. Возможно, этим строится смысловая оппозиция: «вода-земля», «море-берег», опять же нарушающая некое изначальное единство, переворачивающая традиционные отношения «верха» и «низа».
В самом начале трагедии на темной орхестре — Хор Океанид. В дальнейшем Хор Океанид то погружается во мрак, оставляя «на свету» трех его участниц, то заменяется Хором Нереид. В третьем действии Хор распадается на «Хор мужчин» и «Хор женщин». И, наконец, Иванов обозначает хор трагедии выразительным символическим именем — «Толпа».
Таким образом, в трагедии не сохраняется и формальное единство хора.
Отношение Прометея (протагониста хора) с хором тоже отличается от традиционных отношений хора и героя (протагониста) в античной драме. Прометей не поддерживает настроений хора и не только не замечает 121 хор (как было на закате греческой трагедии), но отвечает на явный призыв явным отказом вступать с хором в диалогические отношения.
Прометей обрек себя на метафизическое одиночество, но это одиночество обращает его не внутрь себя, не на пересоздание себя, а на внешние действия.
Прометей — основатель каиновой культуры, он прославляет первого убийцу — своего зеркального двойника. Этим совершается порабощение Матери-Земли, в чьи недра спускается Прометей в конце первого действия (освещая путь факелом братоубийцы Архата).
Во втором действии Прометей делает жертвенник, а затем засыпает. Во сне ему являются его мать Фемида и его возлюбленная Пандора в сопровождении двух «темных демонов». В этой сцене собраны все смыслообразующие символы трагедии — огонь, пылающий на жертвеннике, спящий Прометей, призрачная невидимая Пандора и бодрствующая, реальная, но бессильная помочь другим Фемида.
В третьем действии хор скорбит о том, что люди живут бесплодной унылой жизнью, отторгнутые от гармонии природы, и проклинают «дар сознания», который дал людям Прометей. Приносится жертва, и над алтарем появляется облако, Хор-народ пытается узнать, кто пришел к ним с вестью от богов. Прометей в это время находится в своей кузнице, и в толпе зреет гнев на то, что Прометей, как им кажется, их бросил и перешел на сторону богов.
Из облака появляется Пандора, закованная в цепи, в сопровождении двух стражников. Она принесла людям ковчег-ящик, в нем дары для людей «кроткой, милой жизни» (в античной мифологии «ящик Пандоры» — беды и несчастья). Толпа принимает дары, среди них обручальные кольца — главный дар Пандоры. В обмен Пандора просит освободить ее от уз. Затем следует ее монолог о подлинном намерении Прометея.
Этот монолог — центр действия и составляет одну треть всей драмы. В монологе Пандоры рассказывается о том, что когда-то иной, подлинный Зевс («Сам») родил сына — Диониса, владыку мира. Жившие тогда на Земле титаны убили младенца и съели его, Зевс уничтожил титанов и, в свою очередь, съел сердце Диониса, которое по своей сути является Солнцем. Зевс-Отец, сияющий изнутри, рождает всех богов, в том числе и своего двойника-Зевса — Кронида. Символом этого второго Зевса является орел (в таком виде он является людям). У Диониса есть мать — Фемида, после его рождения она становится «призраком извечной Девы» и управляет миром вместе с Зевсом-Кронидом. Здесь Иванов во второй раз в трагедии повторяет орфический миф о Дионисе.
122 Зевс-Кронид на самом деле несет людям благо, а не зло. Прометей — сын восставших против Зевса титанов. Он направлен на зло, месть и уничтожение Зевса. Для этого он решил зачать новую расу, и для этого ему была необходима женщина. Боги, по просьбе Прометея, создали Пандору. Прометей заковал ее и заключил в Тартар — подземное царство под надзор двух «глухонемых великанов».
Прометей не просто хотел создать людей из праха титанов и плоти Диониса, он хотел, чтобы люди имели полную божественную свободу. Отметим важную идею для усиления символа греховности уединенного сознания: Пандора лишь служила Прометею образцом для лепки людей, приманкой при похищении огня для орлов Зевса. Прометей, как и Тантал (как и Люцифер), не испытал любви к женщине.
Прометей оставил Пандору прикованной на высокой скале, хищные птицы (боги) набрасываются на нее. От удара божественного орла о камень появилась искра, которую Прометей использовал при создании людей, а затем и отдал им. Боги простили Прометею и предложили заключить союз, но Прометей жаждет мятежа и борьбы с богами. Зевс-Кронид послал Пандору на землю, чтобы она объяснила им его замысел, и признали Пандору своей богиней, этим они «раскуют» Пандору и закуют Прометея в вечные цепи. Но Пандора (женский двойник Прометея) призывает людей убить ее. Стражники Кратос и Бия заковывают Прометея, Пандора умирает, люди полностью лишены свободы и попадают под власть Кратоса и Бии (Силы и Власти).
Если мы посмотрим на схему трагедии, то увидим, что перед нами традиционная ивановская схема — концепция «восхождения-нисхождения». Прометей в своем восхождении мнит превзойти Кронида (правителя мира) и поклоняется самому Зевсу, то есть во имя бога он не приемлет божьего мира. Так как Пандора — двойник Прометея, то перед нами два вида греховного богоборчества — неприятие мира во имя бога и неприятие бога во имя мира.
Кульминацией трагедии является танец с золотыми кольцами, в котором главную роль играют пары танцующих и семеро не поймавших кольца копьеносцев. Перед нами обилие драгоценных уборов (ожерелья, запястья, венцы), тонкотканные пурпурные одежды (цвет огня, жреца и жертвы) — в элевсинских мистериях священники носили длинные одежды пурпурного цвета, флейты, солирующие в «многострунной» музыке. Все это создает торжественный праздничный священный ритуальный обряд, подготавливающий длинный и тоже ритуальный священный монолог Пандоры — идеологический центр — «святая святых» мистериальной пьесы.
123 В «Прометее» Иванов придает важное значение символике чисел. С пифагорейским учением о числе (создавшем мировоззрение орфического священного мистического ритуала) связано его учение о диаде и триаде, четном и нечетном, мужском и женском началах — праоснове мира.
Иванов выстраивает в «Прометее» два символических цифровых ряда: нечетный — 3, 5, 7; четный — 2, 10.
Сцена поделена на 3 части, Прометей появляется в сопровождении 3 эринний, алтарь с неугодной жертвой стоит на пересечении 3 дорог, 3 смерти — 3 жертвы первых людей. В трагедии 3 явления, 3 действия. Три — это число устойчивости, цельности и единства, в учении пифагорейцев — символ духовного синтеза и разрешения конфликта, который содержится в дуализме.
Семь — число гармонической полноты (7 нот и 7 цветов спектра). 7 копьеносцев, 7 стражников, 7 обрученных, 7 юношей подходят к алтарю.
Женский характер является, по Иванову, «диадой» — двойкой, и с Пандорой связан четный — «женский» цифровой ряд. Рядом с ней 2 стражника, 2 отрока. Кульминация трагедии — монолог — статическая композиция. Пандора стоит на алтаре в оковах с 2 сторон — 2 «глухонемых демона», перед ними 2 отрока с флейтами.
Символика цвета и символика чисел, имеющая иератический сакральный характер, выводит трагедию на уровень священного действа, усиливая тем самым динамику движения смысла и расширяя диапазон его значений — от сверхличного обряда, ритуала, повторения перводействия до мистерии личности — истории души человеческой.
О. Дешарт пишет, что прототипом главного героя трагедии «Тантал» был отчасти В. В. Розанов, «Прометея» — возможно, Н. А. Бердяев. Впрочем, как в «Тантале», так и в «Прометее» воплощены, безусловно, этапы духовного самоопределения (те самые «мистерии поэта») Вячеслава Иванова, о которых уже было сказано выше.
Первый вариант трагедии «Сыны Прометея» был написан в 1915 году. В конце 1914-го — начале 1915 года Иванов написал два стихотворения, которые также можно рассматривать как авторский миф. Это рассказ о внутреннем мире человека начала XX века.
Поэт пользуется античной, орфической и христианской символикой. Душа Психеи скитается со своим светильником, гордый рассудок заявил ей, что не нуждается в ее песне, он надеется только на свои силы и хочет все подчинить своей власти:
Безумная Психея,
Усталая от бега,
Стучится у порога
124 И
требует ночлега;
И молит, ради Бога,
У вратарей — елея…238
В «покоях подземельных» рассудок сидит вместе с Другом, там горят семь светильников, полные елея. Утром «в кущах сада» Друг спрашивает: «Где Психея?»
Гляжу: под розой алой
Белеет покрывало,
И тлеет без елея
Разбитая лампада.
(«Психея-скиталица»)239
«Психея» — миф о внутреннем мире современного человека, о его расколотом сознании. Символ «разбитого светильника» — символ и ивановского «Прометея», который не мог возникнуть у Эсхила, не интересовал он и других многочисленных авторов, обращавшихся в своих художественных произведениях к мифу о Прометее.
Трагедии «Тантал» и «Прометей» — попытка создания новой символистской драмы. Менее известны «драматические опыты» Иванова иного рода.
В книге «Разговоры с Вячеславом Ивановым» М. Альтман приводит высказывания поэта об аристофановской комедии и его план создания подобной комедии о Ницше: «План моей предполагаемой комедии был приблизительно таков. Дионис с сонмом своих сатиров и менад возвращается из Индии; по дороге через Персию этот сонм натыкается на новоявленного Заратустру — Ницше, которого также сопровождает большой сонм. Ницше начинает излагать свое учение, называя его учением Диониса, сатиры хлопают глазами и ушами и никак не могут признать учение Ницше за дионисовское. Происходят забавные qui pro quo, причем особенно забавными оказываются ницшеанцы. Тут может быть выведен и Вагнер, который, кстати сказать, как все торжественные, особенно может быть юмористичен (“Вот стоит Вагнер, он стоит, как колонна”, — пишет с юмором Ницше): ведь и музыка Вагнера вызывает или восторг, или смех. От великого до смешного шаг, от торжественного до смешного еще меньше, часто ни шага. В заключение судьей между сатирами и Ницше является сам Дионис, тут можно воздать Ницше следуемое ему признание. В таком духе рисовалась мне некогда эта комедия, напоминающая, впрочем, скорее “Лягушек” Аристофана, чем его “Облака”»240.
Но комедия о Ницше Вячеславом Ивановым так и не была написана.
125 В 1923 году Иванов — профессор Бакинского университета публикует диссертацию «Дионис и прадионисийство», подытоживая свои исследования на эту тему. В этом же году по просьбе известного оперного режиссера Н. Н. Боголюбова он написал музыкальную трагикомедию «Любовь — мираж?» Музыка была написана М. Е. Петровым — профессором Бакинской консерватории.
В этой непритязательной пьесе — основные мотивы, символы, любимые драматургические приемы Иванова, но в легкой, почти пародийной форме. Эти традиционные двойники и парные символы, переплетения сна и действительности, яви и фантазии, любви и миража осмеиваются и подвергаются им беспощадному театральному («карнавальному») переворачиванию.
Один из героев — своеобразный «бог из машины» (кажется, и в самом деле всемогущественный полубог) — американский миллиардер — «мистер Сам», появляющийся откуда-то с небес на собственном летательном аппарате, соблазняющий и благополучно разрешающий судьбу влюбленных. Первое и третье действия пьесы происходят в кабаре, а традиционное ивановское «соборное» общение, диалог «поэта» и «черни» представлен в виде дуэта конферансье — «господина с орхидеей» и «публики» — хора этой трагикомедии.
Господин
с орхидеей
Мы, рыцари безделья,
Пока в чаду похмелья
Не смыл девятый вал
Публика
(хор)
Вздор, нынче, карнавал!241
Еще одна тема, которая как бы шутя и «не всерьез» затрагивается в этой пьесе: «Что есть искусство?» Главный герой — во всем разочаровавшийся и разуверившийся Крушинин встречается с талантливой, но неудачливой актрисой Мари. Поэт с легким юмором обыгрывает свою вечную тему «женского двойника». Встреча происходит за кулисами призрачного мира театра — уличного кафешантана.
Мари
Искусство — весело, искусство ткет обманы,
иллюзией и тешит и манит…
И если вас мое искусство усладит,
Я роль беру волшебницы Морганы242.
126 Второе действие автор переносит на берег моря, где герои проверяют свою любовь «условным» союзом, браком на пари, но, считая свою любовь миражем, расстаются.
Мари
А я… Я вся — живая маска.
Скинь маску — и лица не сыщешь моего,
Вынь сердце, — не найдешь ты в сердце ничего, —
Обиды разве, да кручину…
Мне чувствовать дано лишь воплотясь в личину243.
Пьеса написана легким «летящим» стихотворным языком, но в тот момент, когда герой остается один, ритм пьесы как бы замедляется с помощью стихосложения с повторяющимися рифмами и строками:
Мерцает огонек на мачте корабля,
Что в море темное мою любовь уносит.
Лететь бы вслед за ним, и крыльев сердце просит,
Но держит узника унылая земля.
Лететь бы вслед за ним, и крыльев сердце просит.
Еще во мгле могу я распознать…
Вчера я счастлив был: былого не догнать,
Что в море темное мою любовь уносит.
Вчера я счастлив был: былого не догнать.
Пуста моя душа, и склепа нет мрачнее.
Забытый огонек, чем дале, тем бледнее.
Еще его во мгле могу я распознать244.
Герой как бы цепляется за свое прошлое, что и передается этими цепляющимися друг за друга строчками, причем эта последовательность рифмовки с повторяющимися рифмами АББА — БВВБ напоминает строение сонета.
Третье действие трагикомедии вновь возвращает нас в нелепый мир театральных иллюзий. Кульминация пьесы — сон Крушинина и его попытка самоубийства.
Мари в этом сне — образ смерти. Иванов изображает здесь «вакхически-зловещий» танец — танго смерти двух покойников, которым правит темный демон — все тот же мистер Сам. Тем не менее, наяву этот шаржированный «демон» счастливо воссоединяет их судьбы, и искусственность счастливого финала отсылает нас к следующему определению Иванова из его статьи «О действии и действе»:
«“Deus ex machina” — единственный логический в своей непоследовательности исход всякой трагедии, и мы недовольны появлением из-за 127 кулис небесного разрешителя только потому, что этот лубочный подарок преждевременно и нецеломудренно обнажает нашу потаенную, заветную мысль. Но мы нуждаемся в уповании, — если струны его в нас разбужены, готовы признать “очистительную” цель трагедии достигнутою»245.
Текст пьесы с нотами М. Попова Вячеслав Иванов привез в Москву (он был приглашен на празднование юбилея А. С. Пушкина). Чтение состоялось в доме Чулковых на Зубовском бульваре. За роялем «намечала» музыку и напевала главные мелодии дочь поэта — Лидия Вячеславовна Иванова.
В «Книге об отце» она вспоминает: «Стихи многих пленили, и возникло желание сделать публичное чтение этой вещи. Помню, уже были назначены место, день и час, готовы программы и приглашения, и вдруг чтение было официально запрещено, а пьеса объявлена “аморальной”. Выяснилось, что многие были возмущены: “Как? Вячеслав Иванов, воспеватель недосягаемых идеалов, умопостигаемых сфер, вдруг пишет оперетку!” Это воспринималось как моральное падение.
Что в этой вещи могло смутить строгих моралистов (к ним позже в Сорренто присоединился и Максим Горький), мне неясно»246.
Возможно, что «аморальными» в 1924 году могли быть признаны следующие строки:
Господин
с орхидеей
Мы рыцари безделья.
Пока в чаду похмелья
Не смыл девятый вал —
Публика
(хор)
Интернационал.
Господин
с орхидеей
Звучат аккорды мира
Франк, шиллинг, доллар, лира
В беспечном кабаре <…>
Здесь наций грани стерты…
Да здравствует четвертый
Интернационал!
Господин
с орхидеей (кричит)
Итак,
(запевает)
Рантье
128 Публика (хор)
Рантье всех стран соединяйтесь,
В интернационал!247
В этой же главе воспоминаний Л. Иванова приводит письмо Мейерхольда из Венеции Вяч. Иванову от 12 июля 1925 года, которое свидетельствует о высокой оценке пьесы режиссером: «Зинаида Николаевна и я часто с восторгом вспоминаем нашу встречу в Москве, когда Вы так замечательно, с таким блеском и с таким тонким юмором читали Вашу умную, блестящую комедию на музыке. Дорогой учитель! Отвечайте на это письмо непременно и скоро. Любящий Вас В. Мейерхольд»248.
Еще одна пьеса — драма «Наль и Дамаянти», написанная по просьбе дочери — Л. Д. Ивановой — композитора, профессора Римской консерватории зимой 1934/35 года, осталась незавершенной. Главной темой является тема азарта, игры в кости. Пьеса не была окончена из-за серьезного расхождения с Л. Ивановой в интерпретации действующих лиц. Тем не менее, сохранившиеся материалы позволяют говорить о развитии Ивановым его идеи «соборного» мифотворческого театра в форме традиционной романтической мифологической драмы.
Драматургия Иванова — попытка создания нового поэтического мифа — мифа человека XX столетия. Поэт актуализирует мир античного мифа путем создания сложной цепи смысловых связей и символов. Его драматическая трилогия представляет нам весь спектр философских и эстетических взглядов поэта, являясь частью его театрально-теоретических и художественных поисков.
186 Архив Вячеслава Иванова в ИРЛИ, ф. 607, 194, л. 205.
187 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель. Т. 2. С. 19 – 20.
188 Новое литературное обозрение 2000 г., № 43.
189 Там же.
190 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель. Т. 1. С. 596 – 597.
191 Кружков Г. «Мы — двух теней скорбящая чета» // Новое литературное обозрение 2000 г., № 43.
192 Там же.
193 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель. Т. 2. С. 678.
194 Там же. С. 678 – 679.
195 Там же. С. 679.
196 Там же. С. 679.
197 Там же. Т. 1. С. 81.
198 Герасимов Ю. К. Неоконченная трагедия Вячеслава Иванова «Ниобея» // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 г. М., 1984. С. 185 – 186.
199 Там же. С. 187.
201 Там же. С. 187 – 188.
202 Там же. С. 188.
203 Там же. С. 187 – 195.
204 Там же. С. 198.
205 Там же. С. 196.
206 Там же. С. 198 – 199.
207 Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 61.
208 Там же. С. 48 – 49.
209 Там же. С. 27 – 28.
210 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель. Т. 2. С. 28.
211 Там же. Т. 2. С. 25.
212 Там же. С. 73.
213 Там же. Т. 1. С. 835.
214 Там же. Т. 2. С. 24.
215 Там же. С. 67.
216 Там же. С. 25.
217 Там же. С. 26.
218 Там же. С. 27.
219 Там же.
220 Там же. С. 25.
221 Там же. С. 30.
222 Там же. С. 31.
223 Там же. С. 65.
224 Там же. С. 50.
225 Там же.
226 Там же. С. 48.
227 Там же. С. 52, 55.
228 Мандельштам О. Э. Стихотворения. Переводы. Очерки, 1992. С. 98 – 99.
229 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель. Т. 2. С. 115.
230 Там же. С. 169.
231 Там же. С. 157.
232 Там же. С. 156.
233 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 228.
234 Там же С. 228.
235 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель. Т. 2. С. 112.
236 Там же. С. 111.
237 Там же. С. 111.
238 Там же. Т. 3. С. 549.
239 Там же. С. 549.
240 Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 44.
241 Архив Вяч. Иванова в РГАЛИ, ф. 130, оп. 1, ед. хр. 100. Л. 2.
242 Там же. Л. 16.
243 Там же. Л. 34.
244 Там же. Л. 53.
245 Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель. Т. 2. С. 157.
246 Иванова Л. В. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 124.
247 Архив Вяч. Иванова в РГАЛИ, ф. 130, оп. 1, ед. хр. 100. Л. 3.
248 Иванова Л. В. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 124.
130 Эпилог
Рубеж XIX и XX веков в истории европейского театра изобиловал творческими экспериментами, поражал разнообразием теоретических суждений относительно настоящего и будущего театральной культуры. Теория и практика в одних случаях существовали в полном единстве, в других — вступали в острый, драматический конфликт. Особое место в панораме идейно-художественных исканий времени начала XX столетия занимает «соборный театр» Вячеслава Иванова — важная и органичная часть в системе его религиозно-философских воззрений.
Главное внимание в этом философско-эстетическом учении уделяется выявлению коммуникативной, диалогической сущности символа. Искусство, по мнению поэта, призвано быть символическим и реалистическим, раскрывать во всех явлениях связь всего сущего, «прозревать знамения» иного, горнего мира.
Поэзия, драматургия, философско-эстетическая эссеистика Вячеслава Иванова насыщена сложной, многоуровневой символикой. Миф у Иванова — это диалог символов. Мифотворчество — вид «теургического» художественного диалога. Это постоянная динамика перерастания себя, открытость, реальная возможность вырваться из гибельной замкнутости с помощью символистских, «культурно-значимых» явлений.
Центральный миф его художественной философии — миф о боге Дионисе, растерзанном на части, — символ распада целостности мира. Миф о превращении космоса в хаос дополняется мифом о возвращении хаоса к космосу. Воссоединение происходит через саморазрушение, то есть через жертву. Этот миф поэтически воплощается в основных произведениях поэта. Восхождение-нисхождение, жрец и жертва, человеческая свобода — центральные темы его творчества.
«Соборный театр» Вячеслава Иванова во многом уникален, неповторим на фоне творческих и исканий своего времени. И в то же время в теории и практике Вячеслава Иванова — поэта, драматурга, есть глубинные и тонкие связи с идейно-художественными опытами начала XX века.
«Театр будущего» в его теории — театр синтетического музыкально-драматического действия. Среди требований Иванова к театрам (в том числе и к тем, кто будет ставить его трагедии) — свобода импровизации, отказ от традиционной сцены-коробки, стирание границ между зрителями и хором. Актер в трагическом театре поэта должен владеть специфической дикцией и пластикой, а зритель чувствовать себя свободным творцом.
131 Драматургия Вячеслава Иванова никогда не ставилась на российской сцене. Хотя западными режиссерами делаются весьма интересные попытки сценического прочтения его трагедий. Объясняется это отчасти и тем, что тексты поэта до последнего времени имелись только в дореволюционных изданиях. Но и недавно изданное в Брюсселе Полное собрание сочинений поэта (до сих пор незаконченное) доступно совсем немногим.
Автору хотелось бы, чтобы предложенный комментарий к драматическим текстам помог практикам театра и вернул практически забытую драматургию Вячеслава Иванова на отечественную сцену.
132 Библиография
1. Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1974 – 1987.
2. Иванов В. И. Первая Пифийская Ода Пиндара: Перевод размером подлинника. СПб., 1899.
3. Иванов В. И. Кормчие звезды: Первая книга лирики. М., 1904.
4. Иванов В. И. Прозрачность: Вторая книга лирики. М., 1904.
5. Иванов В. И. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 1, 2, 3, 5, 8, 9.
6. Иванов В. И. Религия Диониса // Вопросы жизни. 1905. № 6, 7.
7. Иванов В. И. По звездам. СПб., 1909.
8. Иванов В. И. De societatibus vectigalium publica cum populi Romani. СПб., 1910.
9. Иванов В. И. Cor Ardens: Собрание стихотворений. М., 1911.
10. Иванов В. И. Нежная тайна: Стихи. СПб., 1912.
11. Иванов В. И. Эрос: Стихи. СПб., 1912.
12. Иванов В. И. Борозды и межи. М., 1916.
13. Иванов В. И. Алкей и Сафо: Собрание песен и лирических отрывков в переводе и размере подлинников, со вступительным очерком. М., 1914.
14. Иванов В. И. Младенчество. СПб., 1918.
15. Иванов В. И. Родное и вселенское: Статьи. М., 1917.
16. Иванов В. И. Прометей. СПб., 1919.
17. Иванов В. И. и Гершензон М. Переписка из двух углов. Пг., 1921.
18. Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923.
19. Иванов В. И. Человек. Париж, 1931.
20. Иванов В. И. Стихотворения. М., 1976.
21. Иванов В. И. Письма к Ф. Сологубу и Ал. Н. Чеботаревской / Публикация А. В. Лаврова // Ежегодник Пушкинского Дома на 1974 г. Л., 1976.
22. Иванов В. И. Письма к Э. Метнеру. РГБ. Отдел рукописей, оп. 167, карт. 14, ед. хр. 10.
23. Иванов В. И. Переписка с В. А. Меркурьевой // Русская литература. 1991. № 1.
24. Иванов В. И. Предчувствия и предвестия. М., 1991.
25. Иванов В. И., Метнер Э. Переписка из двух миров (1911 – 1933) // Вопросы литературы. 1994. № 2, 3.
26. Иванов В. И. Переписка с В. Э. Мейерхольдом и З. Н. Райх // Новое литературное обозрение. 1994. № 10.
27. Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
28. 133 Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994.
29. Иванов В. И. Лик и личины России. М., 1995.
30. Иванов В. И. Стихотворения. Поэмы: В 2 т. СПб., 1995.
31. Иванов В. И. Материалы и исследования. М., 1996.
32. Архив Вяч. Иванова в РГБ, ф. 109, № 9.
33. Архив Вяч. Иванова в РГАЛИ, ф. 130, оп. 1, ед. хр. 100.
34. Архив Вяч. Иванова в ИРЛИ, ф. 607, 194.
35. Аверинцев С. С. Поэзия Вячеслава Иванова // Вопросы литературы. 1975.
36. Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // Контекст. М., 1983.
37. Аверинцев С. С. Скворешниц вольный гражданин. Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами // Русская мысль. 1995. № 4098, 4099.
38. Адамович Г. В. Одиночество и свобода. СПб., 1993.
39. Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995.
40. Анненский И. Ф. О современном лиризме // Аполлон. 1909. № 1 – 3.
41. Античность в контексте современности. М., 1990.
42. Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972.
43. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. 4.
44. Баткин А. «Неужели вот тот — это я?»: Об автобиографизме в поэзии // Знамя. 1995. № 2.
45. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
46. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
47. Бачелис Т. И. Заметки о символизме. М., 1998.
48. Багиляр Г. Вода и грезы: Опыт о воображении материи. М., 1998.
49. «Башня» Вячеслава Иванова // Советский музей. 1990. № 5.
50. Белый А. О теургии // Новый путь. 1903. № 9.
51. Белый А. Театр и современная драма // Театр. Книга о новом театре. СПб., 1908.
52. Белый А. Сирин ученого варварства. Берлин, 1922.
53. Белый А. Начало века. М., 1990.
54. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
55. Бенуа А. М. Мои воспоминания: В 5 т. М., 1980.
56. Бердяев Н. А. Ивановские среды // Русская литература XX века. Т. 3. Кн. 8, 1916.
57. Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М., 1991.
58. 134 Бердяев Н. А. Очарование отраженных культур // Бердяев Н. А. О русских классиках. М., 1993.
59. Библия. Брюссель, 1989.
60. Блок А. и Белый А. Переписка. М., 1940.
61. Блоковский сборник II // Уч. зап. ТГУ. Вып. 604. Тарту, 1972. С. 159.
62. Блоковский сборник VIII // Уч. зап. ТГУ. Вып. 813. Тарту, 1984. С. 190.
63. Богомолов Н. А. «Мы — два грозой зажженные ствола» // Литературное обозрение. 1991. № 11.
64. Богомолов Н. А., Мальмстад Д. М. Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М., 1996.
65. Брагинская Н. Трагедия и ритуал у В. Иванова // Архаический ритуал в фольклоре и раннелитературных памятниках. М., 1988.
66. Брюсов В. Я. Вячеслав Иванов. Андрей Белый // Далекие и близкие. М., 1912.
67. Булгаков С. Н. Искусство и теургия // Русская мысль. 1916.
68. Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
69. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
70. Валентинов Н. В. Два года с символистами. Stanford, 1965.
71. Вахтель Н. М. Вячеслав Иванов — студент Берлинского университета // Cahiers du Monde russe. Vol. XXXV (1 – 2), 1994, p. 353 – 376.
72. Волков Н. Д. Мейерхольд: В 2 т. М., 1979.
73. Волошин М. А. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991.
74. Галич Л. Дионисово соборное действо и мистический театр «Факелы» // Театр и искусство. 1906. № 9.
75. Галич Л. Мысли о театре // Театр и искусство. 1909. № 1.
76. Галич Л. «Прекрасная модель» // Новый день. 7.08.1909.
77. Гаспаров М. Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Новое в современной классической филологии. М., 1997.
78. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX вв. Л.; М., 1939.
79. Герасимов Ю. К. Неоконченная трагедия Вячеслава Иванова «Ниобея» // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 г. М., 1984.
80. Герцык Е. К. Воспоминания. Paris, 1973.
81. Гиппиус З. Н. Поэт и Тарпейская скала // Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
82. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987.
83. Городецкий С. М. Жизнь неукротимая. М., 1984.
84. 135 Горький М. Вяч. Иванов // Горький М. Художественные произведения: Планы, наброски, заметки о литературе и языке. М., 1969.
85. Грабарь М. Е. М. Бахтин и Вяч. Иванов: Литературоведческий диалог или взаимное непонимание // V. Ivanov: Russischer Dichter — Europaischer Kulturphilosoph. Heidelberg, 1993.
86. Гулыга А. В. Миф как философская проблема // Античная культура и современная наука. М., 1985.
87. Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923.
88. Данилевский Р. К истории восприятия Ф. Ницше в России // Русская литература. Л., 1988. № 4. С. 232 – 239.
89. Дешарт О. О Вячеславе Иванове // Иванов В. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1.
90. Диалог в философии: Традиции и современность. СПб., 1996.
91. Доброхотов А. П. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.
92. Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987.
93. Дубин Б. Зеркало в центре лабиринта // Вопросы литературы. 1991. № 8.
94. Жолковский А. К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. М., 1992.
95. Зелинский Ф. Ф. Вячеслав Иванов // Русская литература XX века. 1890 – 1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. 3. Кн. 8. 1917.
96. Зиновьева-Аннибал Л. Д. Кольца. М., 1904.
97. Зносско-Боровский Е. А. Башенный театр // Аполлон. 1910. № 8.
98. Зносско-Боровский Е. А. Русский театр XX века. Прага, 1925.
99. Зоркая Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900 – 1910 годов. М., 1976.
100. Иванов Д. В. Из воспоминаний // Новое литературное обозрение. 1994. № 10.
101. Иванова Л. В. Воспоминания. Неизданные письма Вячеслава Иванова // Минувшее. 1991. № 3.
102. Иванова Л. В. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
103. Измайлов А. А. Звенящий кимвал // Измайлов А. А. Пестрые знамена. М., 1913.
104. Из истории Советской науки о театре. 20-е годы. М., 1988.
105. Ильин В. Н. Эссе о русской культуре. СПб., 1997.
106. Исследования по теории стиха. Л., 1978.
107. История русской литературы XX века: Серебряный век / Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды и Е. Эткинда. М., 1995.
108. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992.
109. 136 Кессиди Ф. От мифа к логосу. М., 1972.
110. Кобак А., Северюхин Д. «Башня» на Таврической // Декоративное искусство СССР. 1987. № 1.
111. Коган П. С. Очерки по истории новейшей русской литературы. Т. 3. Вып. 3. Мистики и богоискатели.
112. Колобаева Л. А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX – XX веков. М., 1990.
113. Корецкая И. В. Вяч. Иванов и И. Анненский // Контекст-89. М., 1989.
114. Корецкая И. В. Метафора «арки» в поэзии Вячеслава Иванова // Известия РАН. Отдел языка и литературы. 1992. Т. 51. № 2.
115. Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов — профессор Бакинского университета // Труды по русской и славянской филологии. XI // Уч. зап. ТГУ. Вып. 209. Тарту, 1968.
116. Котрелев Н. В. К проблеме диалогического персонажа. М. Бахтин и В. Иванов // Культура и память: Третий международный симпозиум, посвященный Вячеславу Иванову. Т. 2 Доклады на русском языке. Флоренция, 1996.
117. Кружков Г. «Мы двух теней скорбящая чета…» // Новое литературное обозрение. 2000, № 43.
118. Культура и память: Третий международный симпозиум, посвященный Вячеславу Иванову. Флоренция, 1996. Т. 2.
119. Лавров А. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф. Фольклор. Литература. М., 1978.
120. Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. М., 1996.
121. Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. 1970. № 7.
122. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 638.
123. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
124. Лосев А. Ф. Эпос. Символ. Миф. М., 1982.
125. Лосев А. Ф. Из последних воспоминаний о Вячеславе Иванове // Эсхил. Трагедии. М., 1989.
126. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Ранняя классика. М., 1994.
127. Лососий В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. М., 1991.
128. Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991.
129. 137 Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Уч. зап. ТГУ. Вып. 754. Тарту, 1987.
130. Мазаев А. И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М., 1992.
131. Маковский С. Вячеслав Иванов в России // Новый журнал. Нью-Йорк, 1952. № 30.
132. Мейерхольд В. Э. О мистическом реализме // РГАЛИ, ф. 998, т. 1, ед. хр. 400, Л. 1 – 3.
133. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 т. М., 1968.
134. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
135. Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Уч. зап. ТГУ. Вып. 459. Тарту, 1979.
136. Минц З. Г. Об эволюции русского символизма // Уч. зап. ТГУ. Вып. 755. Блоковский сборник VII. Тарту, 1986.
137. Минц З. Г., Обатнин Г. В. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч. Иванова // Уч. зап. ТГУ. Вып. 832. Тарту, 1988.
138. Мифологический словарь / Под ред. Мелетинского Е. М. М., 1994.
139. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990.
140. Нусинов И. История образа Прометея // История литературного героя. М., 1998.
141. Обатнин Г. В. Из материалов Вячеслава Иванова в рукописном отделе Пушкинского Дома // РАН. Институт русской литературы, 1991.
142. Обатнин Г. В. Вячеслав Иванов и смерть Л. Д. Зиновьевой-Аннибал: концепция «реализма» // Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Helsinki, 1996.
143. Обатнин Г. В. Иванов-мистик. М., 2000.
144. Пойман А. История русского символизма. М., 1998.
145. Павсаний. Описание Эллады: В 2 т. М., 1988.
146. Порфирьева А. Вячеслав Иванов и некоторые тенденции развития условного театра в 1905 – 1915 году // Русский театр и драматургия 1905 – 1917. Л., 1988.
147. Порфирьева А. Мейерхольд и Вагнер // Русский театр и драматургия начала XX века. Л., 1984.
148. Порфирьева А. Русская символистская трагедия и мифологический театр Вагнера // Проблемы музыкального романтизма. Л., 1987.
149. Потебня А. А. Слова и миф. М., 1989.
150. 138 Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки: Исторические корни волшебной сказки. М., 1998.
150. Пяст В. Встречи. М., 1929.
151. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
152. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство 1898 – 1907. М., 1989.
153. Русский драматический театр конца XIX – начала XX века. М., 1997.
154. Серебряный век: Мемуары. М., 1990.
155. Соловьев В. С. Собрание сочинений: В 2 т. М., 1990.
156. Стахорский С. В. Вячеслав Иванов и русская театральная культура начала XX века. М., 1991.
157. Степун Ф. Встречи. М., 1998.
158. Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983.
159. Тишунина Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: Опыт интермедиального анализа. СПб., 1998.
160. Топоров Н. Миф о Тантале // Палеобалканистика и античность. М., 1988.
161. Топоров В. Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Wien, 1990.
162. Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
163. Факелы. СПб, 1906. Кн. 1.
164. Философов Д. В. Театральные заметки. Первое представление «Ипполита» // Мир искусства. 1902. Т. 8. № 11.
165. Франк С. Л. Артистическое народничество // Русская мысль, 1910. № 1.
166. Цимборска-Лебода М. Театральная утопия русского символизма. Slavia Praha, 1984.
167. Чулков Г. И. Годы странствий. М., 1936.
168. Шестов Л. Вячеслав Великолепный // Русская мысль. 1916. № 10.
169. Шишкин А. Б. К истории поэмы «Человек» Вячеслава Иванова // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1992. Т. 51. № 2.
170. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1992.
171. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
172. Эллис. Русские символисты. М., 1910.
173. Эрберг К. О воздушных мостах критики // Аполлон. 1909. № 2.
174. Эсхил. Трагедии. М., 1989.
175. Эткинд А. М. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1986.
176. 139 Эткинд А. М. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 1998.
177. Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.
178. Ярхо В. И. Античная драма: Технология мастерства. М., 1990.
179. Allegory, Myth and Symbol // Ed by M. Bloomfield. Harvard. University Press, 1981.
180. Cultura e Memoria. Atti del terzo Simposio Internazionale dedicato a Vyaceslav Ivanlov. Firenze, 1988.
181. Davidson Pamela. The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov. Cambridge, University Press, 1989.
182. West James Study of Vyacheslav Ivanov and the Russian symbolistic aestetic. London, 1970.
183. Tschopol Carin. Vyatscheslav Ivanov Dichtung und dichtungs Theorie. Munchen.
184. Vyacheslav Ivanov. Russischer Dichter-Europaischer Kulturphilosoph // Beitrage des IV Internationalen Vyacheslav Ivanov — Symposiume. Heidelberg, 1993.
185. Vyacheslav Ivanov: poet, critic and philosopher // Ed. by Robert Louis Jackson a. Lowry Nelson. New Haven Yale Studies, 1986.

